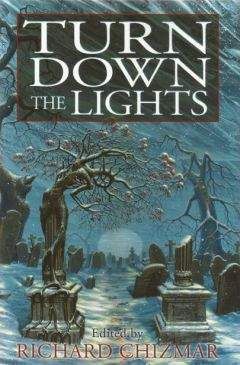Дорожка к «Лесному поместью» ответвлялась от дороги, проходящей через кэмпинг, где теперь одиноко жил Робинсон. Когда-то съезд на эту дорожку был перекрыт, чтобы не допускать праздных зевак и людей, ищущих работу, таких, например, как он сам, но теперь ворота были всегда открыты. Дорожка с полмили извивалась по лесу, где косые, пыльные столбы света казались такими же старыми, как высокие ели и сосны, сквозь кроны которых свет просачивался, пробегала мимо четырех теннисных кортов, огибала поле для гольфа, и делала за конюшней петлю – туда выводили на прогулку лошадей, которые теперь лежали мертвыми в своих стойлах. Коттедж Тимлина был на дальней стороне поселка – скромный домик с четырьмя спальнями, четырьмя ванными комнатами, джакузи и собственной сауной.
– Зачем тебе нужны были четыре спальни, если ты жил один? – спросил его однажды Робинсон.
– Не знаю, и никогда об этом не задумывался, – сказал Тимлин, – но здесь во всех коттеджах по четыре спальни. Кроме «Наперстянки», «Тысячелистника» и «Лаванды». В них – по пять. К «Лаванде», кроме того, пристроен боулинг. Что называется, со всеми удобствами. А вот когда я ребенком приехал сюда с моей семьей, нам приходилось бегать в уборную во дворе. Святая правда.
Робинсон и Гэндальф обычно находили Тимлина в кресле-качалке на широком крыльце «Вероники», где он читал книгу или слушал свой Ай-пад. Робинсон отцеплял поводок от ошейника Гэндальфа, и пес – простая дворняга, никаких явных признаков породы, за исключением висящих как у спаниеля ушей – прыгал вверх по ступенькам, чтобы его приласкали. Погладив собаку, Тимлин осторожно потягивал за серо-белую шерсть в разных местах, и когда шерсть оставалась на месте, всегда произносил одно и то же: «Замечательно».
* * *
В этот прекрасный день в середине августа Гэндальф ограничился кратким визитом на крыльцо «Вероники», обнюхал голые лодыжки сидящего в кресле-качалке Тимлина, прыгнул вниз по ступенькам и умчался в лес. Тимлин поприветствовал Робинсона, подняв руку жестом «Хау», словно индеец из старого фильма. Робинсон ответил тем же.
– Хочешь пивка? – спросил Тимлин. – Отличный сорт. Я только что вытащил его из озера.
– Что сегодня пьем: «Старую дрянь» или «Зеленую горную росу»?
– Ни то ни другое. В кладовке томилась в заточении упаковка «Будвайзера». Король пива, если ты помнишь[3]. Я подарил ему свободу.
– В таком случае буду рад присоединиться.
Тимлин, покряхтывая, встал и пошел внутрь, слегка пошатываясь. Артрит нанес коварный удар по его бедрам, сказал он Робинсону, и, не удовлетворившись этим, решил приняться и за лодыжки. Робинсон никогда не интересовался возрастом Тимлина, но предполагал, что тому давно пошел восьмой десяток. Его стройная фигура свидетельствовала о регулярных занятиях спортом в прошлом, но теперь он начал терять форму. Робинсон, напротив, никогда в жизни не чувствовал себя так хорошо физически, и в этом была особая ирония, если учесть, как мало ему оставалось жить. Тимлин, вообще-то, в нем не нуждался, хотя они и были во многом схожи. Пока это необыкновенно красивое лето угасало, только Гэндальфу он был действительно нужен. И это было нормально, потому что в данный момент Гэндальфа ему было достаточно.
«Просто мальчик с собакой», – подумал он.
Пес этот вышел из леса в середине июня, отощавший и ободранный, его шкура была сплошь усеяна колючими шариками репейника, а через морду тянулась глубокая царапина. Робинсон лежал в гостевой спальне (он терпеть не мог спать в кровати, которую они делили с Дианой), не в силах заснуть от горя и тоски, понимая, что он всё ближе и ближе к тому, чтобы просто сдаться и прекратить всё это. Он бы назвал такой поступок трусливым еще неделей раньше, но с тех пор он признал несколько неоспоримых фактов. Боль – не унять. Горе – никуда не денется. И, само собой, его жизнь в любом случае не будет слишком долгой. Достаточно было учуять запах разлагающихся в лесу животных, чтобы это понять.
Он услышал шум, и сначала подумал, что это человек. Или медведь, привлеченный запахом пищи. Но генератор тогда еще работал, и включились реагирующие на движение фонари, которые освещали подъездную дорожку, так что, когда он выглянул в окно, то разглядел маленькую серую собачонку, которая время от времени скреблась в дверь, а потом снова усаживалась на крыльцо. Когда Робинсон открыл дверь, собака попятилась, прижав уши и подогнув хвост.
– Тебе лучше войти, – сказал Робинзон. – Если ты не чуешь, куда нужно идти, просто возьми пример с этих чертовых комаров.
Он налил собаке в миску воды, которую она яростно вылакала, а потом открыл банку консервированной солонины Пруденс, которую она сожрала в пять или шесть огромных глотков. Когда собака поела, Робинсон погладил ее, надеясь, что она не укусит. Вместо этого собака лизнула его руку.
– Ты – Гэндальф, – сказал Робинсон. – Гэндальф серый. – И разрыдался. Он пытался сказать себе, что смешон, но это было вовсе не так. Собака ведь, в конце концов, живое существо. Он больше не был в доме один.
* * *
– Как поживает твой мотоцикл? – поинтересовался Тимлин.
Они только что открыли по второй банке пива. После того как Робинсон прикончит свою, ему и Гэндальфу предстояла двухмильная прогулка обратно домой. Он не хотел засиживаться слишком долго; с наступлением сумерек полчища комаров выходили на тропу войны.
«Если Тимлин прав, – подумал он, – вместо праведников землю унаследуют кровососы. Ну, то есть, если они найдут, чью кровь сосать».
– Аккумулятор сдох, – ответил он Тимлину. И добавил: – Моя жена заставила меня поклясться, что я продам байк, когда мне исполнится пятьдесят. Она говорила, что после пятидесяти реакция человека сильно замедляется, и в этом возрасте уже опасно садиться за руль.
– И когда тебе исполнится пятьдесят?
– В следующем году, – сказал Робинсон. И захохотал, осознав абсурдность сказанного.
– Я потерял зуб этим утром, – сказал Тимлин. – Может, это ничего и не значит в моем возрасте, но...
– Кровь в унитазе была?
Тимлин – профессор в отставке, который вплоть до прошлого года продолжал вести семинар по американской истории в Принстоне – рассказывал ему, что это – один из первых признаков обширного лучевого поражения, а он много знал об этом, гораздо больше, чем Робинсон. То, что Робинсон знал, так это что его жена и дочь были в Бостоне пятого июня, когда бурные мирные переговоры в Женеве закончились ядерной вспышкой, и что они всё еще были в Бостоне на следующий день, когда мир покончил с собой. На месте Восточного побережья, от Хартфорда до Майами, сейчас в основном дымился оплавленный шлак.