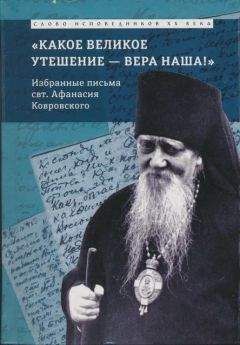Принц засмеялся:
– Нико, уволь! Ты не у своей крестной. Никто ничего и не узнает.
– Легко говорить. Ты не представляешь, Джорджи, сколько здесь ушей и глаз. Потом это просочится в печать, и папенька устроит мне такое… Полагаю, тебе тоже достанется на орехи.
– Как это говорится у вас? Видит око, да зуб неймет? – уточнил принц и еще пуще рассмеялся. К нему присоединился и цесаревич, отчего князь Ухтомский с интересом покосился на веселящихся молодых людей, не переставая между тем писать в блокнот.
– Ладно, поживем – увидим, – заключил принц, положив руку на плечо цесаревичу. – Возможно, и насчет Страстной недели что-нибудь придумаем.
В самом деле, с местными «мадам Хризантемами» ничего не вышло – это оказалось бы совсем из рук вон, и Георгию пришлось двоюродного брата поддержать, о чем оба весьма горевали.
В остальном же Николай старался ни в чем себе не отказывать. Он вначале с отвращением, а потом с удовольствием поедал японские блюда из сырой рыбы и морских тварей, квашеного риса, из водорослей, пахнущих йодом… Посещал чайные домики, неожиданно обнаружив, что японские гейши – совсем не то, что он полагал ранее. Пил саке и скучал по шампанскому, говоря принцу Георгию:
– Эх, Джорджи, вот погоди, вернемся домой, свожу я тебя на учения в Красное Село. Знаешь, что такое пить «до волков»?
– Не знаю, – улыбался грек.
– Представь: раздеваемся мы догола и выскакиваем таким манером на мороз, а там уже буфетчик заготовил нам лохань с шампанским!
– Но оно ведь, полагаю, замерзнет?
– Не успевает, Джорджи, не успевает замерзнуть! Господа гвардейцы быстро хлебают его прямо из лохани, да притом еще и воют по-волчьи.
– Это несколько дикий обычай, – удивился принц. – Но мне нравится!
– Гвардия! – с непонятной греку гордостью сказал цесаревич. – Да не видал ты еще, как «локтями» пьют или «лестницей»! Не то, что этот… чай.
И он с отвращением осушил глиняный кувшинчик саке.
– Кампай! – радостно воскликнул принц.
* * *
Цуда Сандзо тоже пил саке. Но делал он это уже в другой день, притом грустно, сидя на большом круглом камне у обочины лесной тропинки к городу Оцу. С собой у немолодого уже полицейского было несколько кусочков тофу, перышки зеленого лука и колобок риса. Тем не менее есть ему не хотелось, поэтому Цуда задумчиво прихлебывал напиток, а рисовый колобок катал между пальцами свободной руки.
Русские корабли пришли в бухту Нагасаки и стояли там, словно дохлые черепахи, всплывшие на поверхность. Люди вокруг радовались, и Цуда сам читал в «Нити нити симбун»: «В Европе Россию можно сравнить с рыкающим львом или разгневанным слоном, тогда как на Востоке она подобна ручной овечке или спящей кошке… Те, которые думают, что Россия способна кусаться в Азии, как ядовитая змея, похожи на человека, боящегося тигровой шкуры потому только, что тигр – очень свирепое животное».
Однако Цуда не считал Россию ручной овечкой, хотя и не говорил этого вслух, боясь показаться глупым. Собственно, и говорить было некому: родных и друзей у Сандзо почти не осталось, и единственный, с кем он беседовал за последний день, был один молодой лодочник. Лодочник и сказал, что русские приплыли не просто так – они хотят обмануть императора и в трюмах своих огромных кораблей привезли мятежника Сайго Такамори[2].
Цуда прекрасно знал, кто таков мятежник Такамори. Служа в армии, он сражался против него и даже был легко ранен. А вот Такамори вроде бы погиб, получив тяжелую рану и, чтобы не достаться живым неприятелям, попросив одного из лейтенантов отрубить ему голову.
Но, если человек поднял мятеж, значит, у него нет самурайской чести.
А раз у него нет самурайской чести, что может помешать такому человеку притвориться убитым, сбежать за море, а после вернуться, спрятавшись на русском корабле, и поднять еще один мятеж при помощи иноземцев?
Ничего. Так сказал и лодочник. Эти слова запали глубоко в душу Цуда Сандзо, и поэтому он сидел, задумавшись и отпивая маленькими глотками холодный саке.
– Здравствуй, Цуда, – сказал кто-то мягким, вкрадчивым голосом.
Это оказался старик в залатанной одежонке, совсем стоптанных сандалиях-гэта, соломенном плаще. Голова его была повязана запачканным платком, а маленькая бородка дрожала от холода.
– Здравствуй, почтенный, – учтиво сказал Цуда. – Откуда ты знаешь мое имя и не хочешь ли поесть и выпить глоток саке? Правда, мне не на чем его разогреть.
– В холодную погоду даже холодное саке согревает…
Старик благодарно принял напиток и плотнее укутался в свой ветхий плащ.
– Так откуда ты знаешь меня, почтенный? – снова спросил Цуда. – Или ты не хочешь сказать? Или не можешь?
– Я знал твоих родителей, – ответил старик. – Ведь это они служили лекарями у князей Ига?
– Служили. Но…
– А ты прославился вместе с другими в сражениях с Такамори, предавшим микадо.
– Я не осмелился бы говорить так, – скромно сказал Цуда, хотя ему, несомненно, были приятны слова старика.
Совсем скоро они уже вдвоем допили остатки саке, доев и рис, и перышки лука, и тофу. На вопрос старика о том, что нового слышно в Оцу, полицейский рассказал все, что знал. Хотя новости в Оцу ожидались общеизвестные: приезд русского наследника, который должен встретиться там с принцем Арисугавой. Цуда знал об этом особенно много, потому что ему, в числе других стражей порядка, было приказано охранять проезд гостя по улочкам города.
– А ты слышал, что говорят о том, кто приехал с русскими? – спросил старик.
– Ты говоришь о мятежнике Такамори?!
После этих слов Цуда удивился сам себе: не так уж много он выпил саке, чтобы язык сделался таким болтливым. Разговор у них получается плохой, совсем не нужный… Этого старика он видит в первый раз; что, если старик пойдет отсюда к губернатору и отплатит доносом за добро?
Старика неплохо бы убить, решил Цуда, и еще более удивился, когда старик спокойно сказал:
– Не думай об этом, самурай. Сейчас я расскажу тебе все, и ты поймешь.
* * *
Цесаревич стоял у фальшборта и курил. Настроение у него было неважное, хотя официальные мероприятия и церемонии он вместе с принцем Георгием удачно разбавлял увеселительными: катался на рикше, покупал сувениры, посещал уже ставшие привычными чайные домики, записав затем в дневник: «Обитательницы чайных домиков – парчовые куклы в затканных золотом кимоно. Японская эротика утонченнее и чувственнее грубых предложений любви на европейских улицах».
А еще он сделал себе татуировку. Вообще-то в Японии это искусство было запрещено уже довольно давно, да и делали татуировки только люди низкородные, более того, ими даже клеймили преступников. Но Николай знал, что английские принцы Джордж и Альберт уже сделали себе татуировки во время визита в Йокогаму, поэтому не мог удержаться.