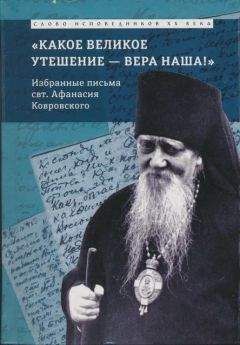«Поди, этому было бы интересно, чтобы меня убили: то-то вышел бы финал у его книги о плавании «Азова»!» – подумал Николай и улыбнулся.
* * *
«Я нисколько не сержусь на добрых японцев за отвратительный поступок одного фанатика. Мне так же, как прежде, любы их образцовый порядок и чистота, и, должен сознаться, продолжаю засматриваться на гейш, которых издали вижу на улице».
Сделав очередную запись в дневнике, Николай потрогал повязку. Нужно сказать, сейчас рана болела куда меньше, чем свежая татуировка, но то и дело кружилась голова. Впрочем, доктор Рамбах объяснил это легким сотрясением мозга и не уставал дивиться тому, что удар саблей случился так счастливо и не нанес тяжелых повреждений. Тем не менее решено было тотчас возвращаться домой.
Разумеется, тому предшествовали многие события, включая визит в Киото самого японского императора Мэйдзи, прибывшего на поезде. Император посетил Николая в гостинице, а затем и на фрегате «Память Азова». Барятинский сообщил цесаревичу, что японские министры не велели императору посещать корабль: дескать, русские могут его похитить, но Мэйдзи не побоялся. Встречи с ним были весьма приятными, но навестить дворец в Токио Николай все же отказался. Только потом он узнал, что японка Юко Хатакэяма заколола себя ножом перед зданием мэрии Киото, не выдержав национального позора.
– Вишь, дура, – констатировал это печальное происшествие принц Георгий. – А вот с тростью занятно получилось.
– О чем ты, Джорджи? – спросил Николай.
– Ну как же! Помнишь того старикашку?
– Какого старикашку?
Перед цесаревичем тут же предстала улица в Оцу, тенистые тополя и испуганный старик, торопливо сдирающий с плешивой головы замызганный платок… Впрочем, полноте, испуганный ли?! Он так странно смотрел… улыбался…
– Да я про отшельника, Ники, или ты забыл?
– А… В самом деле… «Трость будет сильнее меча».
– Вот она, – сказал принц, подбросив в руке трость. – Хорошие трости япошки делают, так треснул этого мерзавца, а ей хоть бы что. Кстати, что там с ним сделали? Надеюсь, уже повесили?
Но Цуда Сандзо не повесили.
18 мая Николаю Александровичу исполнилось двадцать три года, а спустя неделю бывший полицейский Цуда Сандзо был приговорен на закрытом судебном процессе к пожизненному заключению на Хоккайдо, откуда он не должен был вернуться.
– Тот, кто бегает по лесу, стараясь насобирать побольше орехов или грибов, не соберет их много. Тот же, кто не суетится, насобирает больше, – шептал Цуда, не слушая приговора.
А тело веселого водоноса, обглоданное и высосанное, к тому времени уже почти бесследно растворилось в прохладной воде озера Бива.
Глава вторая
Сверчок на Хоккайдо
Сверчок не смолкает
Под половицей в морозной ночи.
Веет стужей циновка.
Не скинув одежды, прилягу.
Ужели мне спать одному?
Гокёгокусэссё-но саки-но Дайдзёдайдзин
Тюрьма Абасири на острове Хоккайдо была поистине страшным местом, и полицейский Цуда Сандзо об этом знал. Впрочем, теперь он уже не был полицейским – скорее позором Японии, хотя обращались с ним хорошо и даже бережно.
В отличие от всех островов Японии, Хоккайдо был расположен в зоне северных ветров. Зимой температура здесь падала до минус тридцати-сорока градусов, свирепствовали ужасные метели, а камеры, на полу которых не было даже циновок, кишели блохами. Заключенные чаще всего умирали от воспаления легких, но Цуда старался не задумываться об этом – он даже не знал, сможет ли дожить до зимы.
Иногда он думал, что следует покончить с собой, но не знал, как это сделать, а главное – не представлял зачем. Умирать Цуда не хотелось, и он жалел, что его не убили тогда, на улице Оцу. Если бы тот огромный русский посильнее ударил его тростью по голове, сейчас не приходилось бы кормить собой полчища блох и размышлять о непонятном…
Заскрипел замок, и в камеру вошел надзиратель по имени Хотака. Хотака был откуда-то с юга, чуть ли не с Окинавы. Кривоногий, покрытый прыщами и воняющий потом, пожилой Хотака был добрым человеком и изредка даже разговаривал с узником, что запрещалось тюремными правилами. Совсем по-другому относился к Цуда второй надзиратель, Фунакоси. Фунакоси был младше Хотаки лет на тридцать и ненавидел заключенного – принося ему яйца, он иногда нарочно ронял их и разбивал, чтобы Цуда ел их прямо с пола, и точно так же проливал молоко.
К слову сказать, яйца и молоко Цуда получал ежедневно и не удивлялся этому, пока старый Хотака не разъяснил, что вообще-то в Абасири так не кормят.
– На кормежку заключенного выделяется в день один сэн[4], – говорил надзиратель, качая головой, – а одно яйцо стоит три сэна. Стакан молока тоже стоит три сэна.
– Но почему меня так кормят? – осторожно спросил Цуда.
– Это надо бы спросить у начальника тюрьмы, господина Итосу. Без его ведома такие вопросы не решаются. Вот только я не возьмусь спрашивать, да и никто не возьмется. И тебе-то что? Ешь яйца, пей молоко и радуйся.
Но радоваться Цуда не мог и не хотел. Сидя в сырой камере, он часами смотрел на стену. Других заключенных выводили на работы – они валили лес, ремонтировали дорогу, работали на огородах. Цуда скучал, часами глядя в маленькое оконце под самым потолком. В окошко было видно только небо – иногда голубое, иногда серое. Там даже не было птиц.
* * *
Так Цуда провел две недели, а может, и больше – после первой он перестал считать дни. Прекратил делать гимнастику, помногу спал, видя во сне странные и неприличные вещи. И кто знает, что случилось бы с бывшим полицейским, не навести его однажды поздним вечером неожиданный гость.
Старик вошел в камеру и остановился. Цуда внимательно смотрел на дверь, ожидая, что вслед за гостем войдет кто-либо из надзирателей, но никто не появлялся.
– Здравствуй, Цуда.
– Здравствуй, почтенный, – ответил Цуда. – Почему ты не назовешь мне своего имени?
– А зачем его знать? Иногда мне кажется, что я и сам его забыл… Пустое; давай лучше я угощу тебя едой, как ты угостил меня тогда на вечерней тропинке.
Сказав так, старик вынул из холщовой сумки небольшую циновку, постелил на пол и принялся выкладывать на нее снедь. Там были морские гребешки, рис, красные водоросли, куски жареной камбалы, кувшинчик с саке. Но сначала старик подал Цуда кусок сырого мяса и велел съесть.
Цуда послушно начал жевать. Мясо было мягким и походило на печень, а пахло водорослями.
– Что это? – спросил он, проглотив.
– Морской лев, – сказал старик. – Это очень полезно. Ешь, а я буду смотреть. И пей.