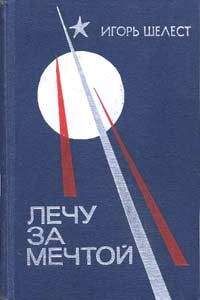Дверь была открыта. Я прокралась по коридору к кухне. Быков в пиджаке, при галстуке, сидел за столом, сжав руками лохматую голову.
Ах, Быков-Быков! Вроде все при нем — вид, рост, тряпки, машина, деньги, девочки…
— Напустил дымовую завесу! — громко сказала я. Быков вздрогнул, но головы не поднял. Я стукнула его по твердому плечу:
— Можно войти?
— Занято, — глухо ответил он. Глянул быстро исподлобья — и я в обалдении пала на табурет. У Быкова были мокрые глаза.
— Ты чего… Быков?
Его лицо перекосило дрожащей улыбкой.
— Она совсем ушла.
Кто ушел и куда ушел — объяснять было не надо. Женского во мне всегда было мало. Утешать, во всяком случае, я не умею. Я вздохнула и сказала бодро:
— И правильно сделала. Давно пора. Я бы тебя бросила на третий день, а она три года терпела. Да ты ей за это должен в ножки поклониться!
Во был цирк! Быков взвился, будто его шилом в задницу кольнули — аж табуретку опрокинул — и сдавленным, знаете, таким страстно-яростным шепотом вопросил:
— В ножки? За что? За это! — рявкнул он так, что уши заложило и эхо по квартире разнеслось. Лапы длинные раскинул, словно предлагая полюбоваться обстановкой. Ничего себе обстановочка, крутая…
— Или за это?! — теперь он гулко бухнул по своей широкой груди. Взлохмаченный, с глубоко запавшими глазами, он был сейчас страшен. И жалок. Какие же они все-таки бабы, эти мужики!
На столе среди окурков — Ларисина фотка. Любуется, болван сентиментальный! Слезки проливает! Я потрогала гладкую бумагу и, крепко ухватив за края, рванула.
— Не надо!
Но я успела быстрее и швырнула ему в морду клочки Ларисы.
— Тряпка!
Что я там орала, не могла вспомнить уже и через пять минут. Вдохновение, знаете… Но разорялась по страшному. А Быков глядел на меня, не мигая, и белые клочки бумаги запутались в его темных волосах, словно клочья седины. Ох, думаю, щас как врежет! А он… взял мою руку и тронул горячими влажными губами. Я только глазами хлопала. А этот… черт повернулся и свалил от меня в ванную.
Подняв вверх руку, я разглядывала ее, как чужую. Рук мужчины мне сроду-роду не целовали.
Главное — всегда вовремя остановиться. Я мельком глянула в зеркало и опустила руку. Не успеешь оглянуться — и Быков станет значить в твоей жизни больше, чем ему положено. Слава Богу, везде есть зеркала…
Он явился с блестящей мокрой головой и уже без ужасного черного пиджака — в нем Быков смахивал на покойника. Потянулся длинным телом и свалился на диван. Задрал ноги на стену. Сказал, глядя в потолок:
— Как живешь, Динго?
— Тускло. А ты очень жить хочешь?
Быков дрыгнул коленом.
— Ты что, решила меня сегодня доконать?
— Да не…
— Вот и гуляй!
Я свистнула. Спрыгнула с подоконника. Поправила шнурки. И пошла — «гулять».
— Стой, — негромко сказал Быков. И заорал. — Тебе говорят, идиотка!
Я затормозила. Приподнявшись на локте, он смотрел на меня с бешенством.
— Опять тебе что-то стукнуло? Ну?
— А ты что, не знаешь? Пошевели мозгами!
— Так. Зачем — тебе — это — нужно?
— Что?
— То! — свирепо сказал он.
— Затем что другого ничего не нужно. Ну ты как хочешь, конечно…
Быков вновь уставился в потолок.
— З-забавно… И как?
— Знаю. Я пошла.
— Сядь.
— А что?
— А то.
Медленно, с трудом сел. Рожа измятая, красными пятнами. Тусклые глаза.
— Ну? — спросила я.
— Ага, — сказал Быков.
И зевнул.
Минут через двадцать после отъезда электрички по вагону быстро прошагал проводник, предупреждая уже охрипшим голосом:
— Граждане пассажиры! Здесь всякое случается. Убедительная просьба — всем лечь и прикрыть головы.
Ошеломленные таким предложением люди пытались что-то выяснить, но он, отмахиваясь, уходил от нас, вещая свою "убедительную просьбу". Пассажиры нерешительно переглядывались. Кое-кто поосторожнее или поопытней уже расстилал на полу газеты.
— Ложитесь-ложитесь, — сказали и нам, — сейчас будет дело.
— Димитрий! — быстро скомандовал Быков. — Под скамью! Динго, на пол!
Он вытянул длинные ноги, успел еще переругнуться с теми, кого они потревожили на той стороне, и вдруг резко, больно ткнул меня носом в пыльный пол электрички, да еще локтем сверху придавил. Не успела я возмутиться — раздался грохот выбитого стекла, кто-то вскрикнул и пошло-поехало громыхать-звенеть-бухать по всему составу. Я с трудом раскрыла зажмуренные веки, попыталась поднять голову. Но Быков, ругнувшись мне в ухо, надавил сильнее, чуть не свернув шею, и я осталась лежать так — прижавшись щекой к грязному полу и вздрагивая при каждом новом грохоте…
Выползли из поезда на полусогнутых.
— Что это было-то? — спросила я, обирая из волос стекла.
— А… его знает! — разъяснил Быков. Он при мне в выражениях не стесняется. При мне никто не стесняется в выражениях.
Поднялись мы на Соколуху. Видок — во! Кругом могилки-могилки-могилки-кресты- звезды-обелиски, а посредине — она. Развалюха. Старая крепость. Сколько себя помню, с города регулярно взимали поборы — на ее восстановление. И где теперь те капиталы…
Всю жизнь пацаны искали в крепости потайной ход — через реку на тот берег, как гласит старинная легенда. Найти не нашли, но одного засыпало. И все ходы зацементировали. Кроме моего…
Камень пошел удивительно легко — точно его недавно двигали. Быков сунулся в потайной лаз, шумно потянул носом:
— М-да, преисподняя… Ну веди, Вергильша…
Я и вывела. И ничего мы на той стороне не увидели. Вернее, никого. Шли по совершенно пустому городу, шаги отпечатывались в тишине улиц, отдавались внутри домов с кое-где выбитыми стеклами, повторялись угрожающе где-то впереди.
— Ну ни-ко-го! — потрясенно говорил Димка, вертя головой. Быков задумчиво поглаживал ствол автомата, который неизвестно почему достал из своей сумищи, за-видев пустую улицу. Оружием в городе никого уже не удивишь — без него у нас даже в магазин не сходишь, не говоря уж о другом районе. Димка глядел, пускал слюни, но просить опробовать пока не решался. Быков, похоже, произвел на него неизгладимое впечатление. Этакий двухметровый супермен, нэ подходы, а то зарэжу!
Быков шел все медленнее. Остановился. Из-под бровей мрачно смотрел на шевелившиеся тополями проулки.
— Не нравится мне все это, — изрек, — этак мы весь город пройдем.
— А что делать?
Он очень внимательно осмотрел нас. По очереди.
— Люди, — сказал тихо, — вернемся?
Мы шумно возмутились. Быков вздохнул.
— Ну, двинулись дальше, друзья-мушкетеры!