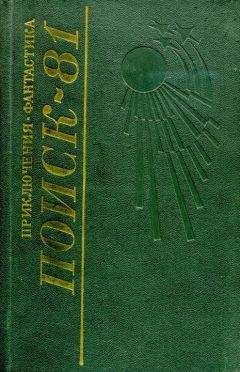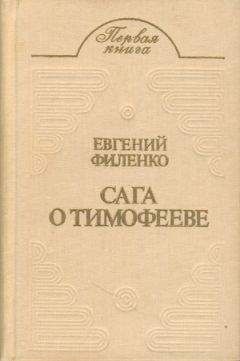Для тебя богатство — то, что ты держишь в руках. Для меня — то, что узнали глаза и уши. Но не все может вместить сердце.
Ты, боярин, похож сейчас на голодную росомаху. Готов грызть меня за то, что я видел это. Ты пойдешь на Югру и разграбишь гору, похожую на уши крутолобой рыси. Но мне теперь все равно. Я рассказал тебе то, что не могло вместить мое сердце, пресыщенное смешным и жестоким.
…Непутевый торгаш Мухмедка-персианин не вышел из боярских покоев. Челядинцы шептались, будто отойти в другой мир он поспешил. Боярин Вяхирь поставил в божнице свечу за упокой иноземца. На всякий случай.
И велел призвать к себе холопа своего Савку.
Непутевому Якову, сыну кривого Прокши, попала вожжа под хвост. Потому ли, что остался не у дел и был искупан в луже веселой новгородской вольницей. Или другая на то причина.
Потребовал он у жены квасу и выплеснул его в цветок, швырнул сапогом в кота, дремавшего на лежанке и остриг полбороды, смотрясь в начищенный медный поднос.
— Опять приключилось что? — робко спросила Малуша. У нее было добренькое лицо в морщинах с родинкой на кончике носа.
Яков погладил себя по животу, вдруг хлопнул по нему ладонью и захохотал:
— Глянь, отъелся. Расперло, как надутую лягушку. А рожа, смотри, рожа какая! Словно клюквенным соком налита. Надави — и брызнет. Хоть в посадники с такой рожей просись.
Он хохотал долго и без удержу, охлопывал себя, будто взбивая пыль.
Потом вздохнул, как при боли, и пробасил:
— Помнишь, как выкрал тебя из батиной ладьи? Ни единая души не заметила.
— Опять уйдешь? — Устало спросила Малуша. Она ссутулилась и бессильно опустила руки.
Было сумрачно в доме. Пахло резкой свежестью после грозы.
По молодости гулял Яков на Ладоге с разбойным станом, потрошил купцов проезжих. Был он тогда худощав и смугл, носил в ухе золотую серьгу-полумесяц. Привел однажды в стан перепуганную девицу с родинкой на кончике носа. И венчался с ней под волчий вой и шум сосновый.
А после торговал товарами скупого тестюшки в разных землях, пока не проторговался. Стал сотником и хаживал в воеводской дружине на Чудь белоглазую, в Емь и Карелу.
А Малуша только и знала, что готовить его в дорогу да тосковать в одиночку долгие зимы.
На склоне лет пришел было в дом покой. Проворовался настоятель церкви Прасковьи Пятницы в Славянском конце отец Олфима. Ремесленный люд и купцы растаскали его двор по бревнышку, а самого завязали в мешок и оставили на колокольне. И на вече назвали новым настоятелем Якова — он и в грамоте искусен, и на руку почище.
Яков облачил тучное тело в рясу и принял сан. Прихожане сначала над ним похохатывали. Потом терпели. Кому придется по нраву, если на проповедях у него пересмешки вместо благолепия и торжественности. А исповедовать взялся он так, будто дознание вел: все расскажи — что, почему и как.
И лопнуло терпение у прихожан, когда однажды во время крестин приковылял в церковь молодой медведь в красной рубахе, сел перед Яковом у царских врат и стал отчаянно вычесывать за ухом. Медведя Яков купил у проезжего скомороха прошлым летом.
Крику и визгу было в церкви! Успел отец Яков затащить мишку в алтарь и удрать с ним в окно.
Медведь убежал, а Якова изловили. Слегка намяли бока, искупали в луже и прогнали с миром. Остался он при сане и без прихода. Затосковал.
— Чуешь? — спросил он Малушу. — Плесенью в доме пахнет.
И втянул воздух широкими ноздрями.
— Окстись, все двери настежь.
— А я говорю — пахнет.
— Пахнет, пахнет, — согласилась супруга. — Что в путь готовить? И куда?
— Не спеши, — отстранил ее Яков, маленькую, сутулую, печальную.
И на мохнатом белогривом Пегашке уехал к Гостиному полю. Ветры нюхать.
За крутым порогом на стремнине Волхова стоят в два ряда крутобокие корабли с выгнутыми носами и осевшей кормой. Скалятся сверху на воду безглазые звериные пасти на длинных шеях. Все, как в песне поется:
Нос-корма по-туриному,
Бока взведены по-звериному.
На берегу — костры, толчея, разноязыкое веселье.
Яков расправил плечи и запрокинул голову.
Неподвижен и чист воздух. Прозрачны зеленоватые струи Волхова и небо вдали цвета прозрачной зелени.
Яков идет по сырому песку от ладьи к ладье, втягивает воздух широкими ноздрями, морщится или с наслаждением чмокает, прикрыв глаза.
К тонким запахам воды, сырых камней и дыма примешались неуловимые ароматы имбиря и корицы, нездешних плодов и пряностей. Пахнет застоялыми трюмами, мокрой солью и задремавшими в мачтах дальними ветрами. Просторен мир и непонятен.
Осел на один бок облезлый кораблик на мелководье. Струи лижут зеленую морскую накипь на днище. Воткнулись в песок весла и на щегле свисают оборванные снасти и тряпки паруса. На брусе борта спит человек с бритой головой, свесив за борт босую ногу.
Яков щелкнул по борту камешком. Крикнул бритому:
— Откуда?
Тот поднял голову, сплюнул и не то обругал, не то ответил.
Хорошо Якову.
Человека гонит в дорогу мечта. Или беда. Или леший его знает что ноги должны ходить, а глаза видеть.
Велик и славен город на Ильмень-озере. На торжище под Горой — даже слепой прозреет и растеряет глаза в тысячеголосой толчее, где меняют венгерских иноходцев на греческий бархат, где немчин сыплет арабское золото за многопудовую булгарскую медь, где целуются и дерутся, и пестрят перед взором лохмотья и золото. Горы товаров. Серебристые соболи и бобры, не имеющие цены на Востоке и Западе, клыки моржа, чистые, как слоновый бивень, воск, янтарь, кожи, злобные северные кречеты, нежные осетры — вот оно, богатство Новгорода.
Велики владенья Новгорода — от Балтийских берегов до Каменного пояса его чети и поселения. Чудь белоглазая и Карела, Емь и Самоядь, что живет у моря и боится воды, Великая Пермь, что не умеет делать железа, и загадочная Югра — все данники Новгорода.
Но только слабый принесет дань своею волей, да еще и поклонится.
О богатствах строптивой Югры сказывают легенды. Но легче в Грецию сходить, чем добраться до Каменного пояса. И никому не ведомо, чем будет потчевать Югра — лаской или стрелами.
Шесть годов назад хаживала к ним новгородская дружина. Обожглась. Кому довелось вернуться, про такие страхи рассказывали, что не каждый теперь снова идти отважится.
Тогда же ушел вслед войску изгнанный из Новгорода дядька Якова — Помоздя, прозванный Молчуном.