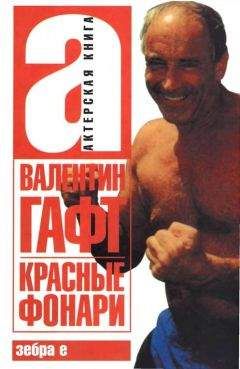- Ага, Паоло, опять ты промазал. Видишь - солнце встало, а ты вчера вещал: "Страшный суд, страшный суд".
- Да вот, дал маху. Коньяк вчера был какого-то пессимистического настою.
Миннезингеры и шуты, поя и кривляясь, созывали на утренний пир. И я шел в столовую залу по длинным, изукрашенным гобеленами работы самых знатных дам Эмилии-Романьи, коридорам, по устланным кордовскими коврами лестницам, а то пользуясь услугами резных кованых позолоченых в богатом убранстве обоих лифтов. И где бы ни шел и в каком бы состоянии ни был, то неостывшей от недавнего промелька тенью, то неизлетевшим ароматом узнавал Ее. А вот, вот улыбнувшаяся всему крещенному миру, а вот, вот заметившей и меня, боже, нет, одного меня из-под черного локона, сквозь верные очки серо-зеленый, цвета моей святой хоругви глаз, вот тонкая холеная рука в злато-серебряном окладе приподнимает для шага край льющегося шелка одежды. Франческа да Римини, дочь Гвидо да Полента, синьора Равенны, жена Джанчетто Малатеста, сына Малатеста деи Малатеста да Веруккьо, синьора Римини, кандидата в коммуну Болоньи от нерушимого блока гвельфов и гибеллинов.
Бог с ними всеми. Франческа да Римини, жизнь моя и смерть моя - это было так хорошо, что просто некуда деться...
Впрочем вечер сменился дождем, холодно и склизко сочащимся из утыканного шпилями неба.
Влекомый инстинктивным поиском тепла, не имеющий даже воротника, чтобы сиротски поднять его, я пошел на какие-то болотные огни. Это оказалась знаменитая площадь Мираж, уставленная французскими бомбардировщиками, хотя, если быть точным, это была знаменитая площадь Пигаль, уставленная французскими секс-бомбами. Каждым камнем, каждым каблуком на камне, каждым шелестом прелестных документов площадь звала не к войне плоти, но хотя бы к ее Мюнхенскому сговору. И это так умело возбуждало грешный мир, что даже часы стояли.
- Эй, ну эй же, - потянулись ко мне женские руки.
- Мистер, синьор, товарищ, ну ради Бога истинна, неизреченна трахните меня, пожалуйста... Какой, глядите... Блуд, видите ли... Ваала и Мамону вспомнил, паразит... Девочки, знаете, давайте сперва бросим в него камень. А то у него из-под веночка чего-то кровь на лбу. Может, это СПИД?
И я бежал, задыхаясь, от Пигаль вверх по Виа Долороза, цепляясь у каждой станции за мемориальные доски, падая, шепча:
- Прости их, прости хоть их, прости их лживые слезы, не дающие Геенне до сих пор разгореться как следует, ибо они правы. Их сила, их слава животной плоти все равно перевесит чашу твоей святости. Суди их, если сможешь, но прости.
А на вершине на месте разрушенного храма у подножия памятника великому Брокен-Хиллу один бородатый, рогатый, хвостатый, свинорылый мужик грозно спрашивал у одного безбородого, во фригийском колпаке, шотландском кильте и в худых лаптях еврея:
- Извините, ребе, простите, не откажите в любезности, виноват, батюшка, милый, сердце мое, хаммер, давай, говори быстро, какой у нас нынче день, а?
- Рабочий, да?
- Врешь, гад! Врешь, жидовская морда. Суббота, забыл, что ли? Теперь каждый день суббота, шаббаш, шабаш, ребята!
И сверху на испоганенные останки храма посыпались дикие шабашники и шабашницы. Гуляй, пока живы. И потом тоже гуляй.
И маленькая костлявая рыжехвостая блядь с визгом ударила меня ладонью по щеке, потом по второй, потом опять по первой.
- А не подставляй!
Вниз, вниз, куда теперь вниз ведет меня предназначение? От прожженного огнем пляски подножия кумира Брокена в прохладу ли отчих кущей ведет меня предназначение? От заледеневшей на ветрах остатней стены поруганного храма, где заледенели не слезы, а моча, к теплу ль матернего очага ведет меня предназначение?
Внизу была улица 8 марта (бывшая площадь Восстания) "К нам, к нам!" зазывала реклама на острых коленях застарелой фанатички большевизма, прямо на лбу которой без труда читалось: "Острая аменорея". "Только у нас, только у нас!" - она заскорузло указывала пальцем на "Курсы по обучению сохранения семьи".
Бледнолицый лектор-мормон со сложной фамилией не то Борубаев, не то Кымбатбаев расхаживал по сцене под восторженные взгляды почитателей.
- Самое главное в семье, - вещал он, воодушевляясь с каждым словом, точно на празднике козлодрания, - это взаимоотношения родителей и детей. Еще Тургенев, еще Пушкин, да что там, Гомер и этот, Ипусер или Изувер из Древнего Египта писали, что эти отношения хоть и сложны, но очень важны. Дети должны родителей любить и почитать, родители наоборот - детей любить и питать надежду. Вынесите родителей!
На сцену вынесли очень старых родителей лектора.
- Вот так нельзя ни в коем случае поступать по отношению к родителям. Не бойтесь, это сценическое движение, - Борубаев (Кымбатбаев) вынул ножик из кармана и, размахнувшись, сымитировал удар отцу в живот. Отец упал и сымитировал смерть.
- Кровь! - закричал кто-то в ужасе.
- Имитация, - захохотали в ответ.
Часа через четыре приехала "скорая помощь" и сымитировала медицинскую помощь. Старика-отца, очень долго искусно имитировавшего жизнь, отвезли на эрзац-кладбище.
Как же странен во всех своих достижениях мир - я опустил очи долу. И откуда они только, эти достижения, берутся? (Я свернул в переулок 18 мучеников). И кому они, кстати эти достижения достаются? (Переулок сам собой вырос в улицу 180 мучеников). И зачем они, в конце концов...
Запах. Сладкий, тошнотворный, древлеприятный запах отвлек меня от всех немногих, да и, честно говоря, чуждых мыслей. В этом запахе был блеск, цвет и то, что не мог преодолеть ни один творец, творя по образу и подобию Кровожадной Обезьяны - ее кровожадности. Да, это было то, что любят из своего фрейдовского далека все любители уголовных хроник чужую насильственную смерть.
И я, следя за собственными подвигами и муками, любил себя более всего перед самым концом и в конце.
Улица 180 - 1800 мучеников автоматически переросла в главную магистраль периферии улицу Ленина: цветы, деревья, тени, дома, дома, тени, флаги, выцветшие под бешеным светилом в цвет дамского белья, нет, в цвет капитуляции, в цвет дамской капитуляции, движения людей, транспортация и так хорошо, так мило на перекрестке Ленина и Путовского поперек дороги стояло жвачное домашнее животное - троллейбус. Между его пружинящими рогами была искусно украшенная двумя петлями причитающаяся рогам веревка. В каждой петле висело по еще живому человеку. Рога раскачивались очень занятно, не совпадая в такте, тела агонизировали долго, со всеми нелитературными подробностями - то есть чернеющая внизу толпа, лучше сказать, коллектив единомышленников получал массу удовольствий.
Да, те двое что висели, были не просто случайные гости на временном празднике жизни до жизни вечной, они были у праздника сивухой и похмельем, они были виноваты от рождения, они кажется, были какой-то не той национальности. Я протянул к ним руки, надеясь остановить эти качели убийства.