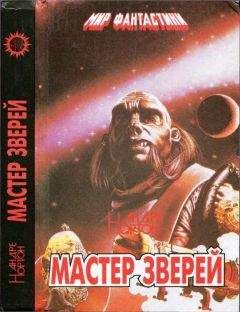Он замолчал, и тут вдруг услышал странный звук – Алхимик не сразу понял, что его издал Зелинский, со свистом втянувший воздух сквозь стиснутые зубы.
– Придурок, – прошипел Мегабайт. – Придушу гада, так твою мать…
Он бросился на Александра так стремительно, что тот едва успел встать с кресла.
Жёсткие пальцы Василия вцепились Алхимику в шею, и Саша увидел глаза друга. Из этих глаз, в которых всегда светились ум и ирония, сейчас напрочь ушёл разум – его сменили безумие и дикая злоба. Нет, не звериная, а просто нечеловеческая злоба. Умницы Зелинского больше не было.
– Убью, с-сволочь…
Они едва не опрокинули столик, рассыпав по полу золотые капли из полиэтиленового пакета. Мегабайт заваливал Сашу, силясь ухватить его за горло. «А ведь он действительно меня убьёт, – отстранённо подумал Свиридов, отдирая пальцы Зелинского от своей шеи. – Какая глупость…».
Пытаясь сохранить равновесие, он оперся правой рукой о стол и внезапно нащупал статуэтку дракона, очень удобно лёгшую к нему в ладонь. В следующую секунду острая драконья морда с хрустом врезалась в бритую голову Мегабайта.
Зелинский обмяк, всхлипнул и повалился.
«Вася… – растерянно думал Алхимик, наблюдая, как из пробитого виска друга на паркет выбегает быстро густеющая струйка крови. – Я же не хотел, Вася… Как же так…».
Он разжал пальцы – золотой дракон глухо стукнулся об пол, однако не упал, а остался стоять, задрав вверх окровавленную морду. Саша присел на корточки возле бессильного тела Василия, взял его за руку – пульса не было. «Надо позвонить в „скорую“ – может, он ещё жив… И в милицию – как там сказал в фильме „Человек-амфибия“ старик-индеец, отец Гуттиэре: „Полиция? Приезжайте на виллу „Долорес“. Я убил человека…“. Но сначала…».
Он сел за компьютер, вышел в Интернет, нашёл заветную иконку, открыл программу, установленную Зелинским полчаса назад, подогнал курсор к нужной строчке в меню запуска и нажал «Enter».
Судьба вторая
ПОСЛЕДНИЙ ПОВЕЛИТЕЛЬ МУЗ
Мутное тяжёлое забытьё лопнуло и рассыпалось на тающие осколки. За окном висела сырая темнота – там дышало то глухое время суток, когда самые отчаянные гуляки уже давно спят сном нераскаявшихся грешников.
Во рту горело, и тело казалось чужим, словно кто-то, издеваясь, приклеил к мозгу этот нелепый придаток с руками-ногами и всеми прочими деталями. Надо бы встать и пошарить окрест – а вдруг? – да вот только он совершенно точно знал, что и в холодильнике, и во всех прочих сусеках шаром покати. Истреблено всё до капельки, а до рассвета (и тем более до открытия магазинов) – как до Китая пешком. «Беломор», правда, имелся, но это слабенькое утешение для внутренностей, истерично вопящих от последствий обильного возлияния.
Очертания комнаты и рисунок обоев плыли перед глазами, и это зыбкое колыхание не прекращалось даже при смыкании век. Спасительный холодок от глотка воды жил какие-то секунды, а затем выжженная пустыня внутри снова властно вступала в свои права. Любое шевеление казалось безумием, а минуты капали и капали, беззвучно исчезая в прожорливой и вязкой тьме, заполнившей всё вокруг.
Однако сознание было на удивление ясным и чётким, каким-то даже прозрачным. И в этом холодном и отстранённом, несовместимом с мучавшимся телом сознании вдруг зазвучал Голос – размеренный и хорошо различимый Голос с неживым металлическим оттенком.
А когда до Вадима окончательно дошло, что этот непонятный Голос произносит вполне осмысленные фразы, более того, строки, связанные между собой и наполненные содержанием, страдалец вскочил и начал судорожно шарить в столе и на книжных полках.
«Листок бумаги! Листок бумаги и карандаш – полпланеты за клочок бумаги и огрызок карандаша! Только бы успеть, пока Голос продолжает звучать, потому что утром от этого магического речитатива не останется и следа!».
Неведомые боги сжалились – тетрадный лист, чистый с одной стороны, и шариковая ручка, пригодная для создания на поверхности бумаги загадочных символов, именуемых буквами, нашлись почти сразу. И настольная лампа послушно загорелась – едва ли не до того, как тихо щёлкнула кнопка выключателя.
Строчки быстро выстраивались одна за другой, без ошибок и исправлений – набело. И неудивительно: записать диктуемое – и всего-то делов! Какие уж тут муки творчества…
И он успел. Когда Голос смолк, лист был исписан сверху донизу – девять строф.
Цепких лап крепки, прочны засовы,
Не хватайте, мёртвые, живых,
Не мешайте яды в разносолы
И не бейте топором под дых
Этот бред, который мучит ночью,
Тошнотворным зелием течёт,
Взнизывая кости позвоночьи
Дьявольской игрою в «чёт-нечёт»
Выдирая ноги из трясины,
В тусклом свете призрачных зарниц,
Ожидая нож и выстрел в спину,
Не живя уже наполовину,
Отгоняешь мрачных чёрных птиц…
Миражи сгущаются химерей,
Мельтешат Бесплотные кругом,
В окруженьи призрачных мистерий
Неподвижно мечешься бегом
Под ногой прочавкает болото,
Ненадёжна зыбкая стезя…
Снова Тень за ближним поворотом
Затаилась, кистенём грозя
Светятся глазищи-головешки,
С плотоядным клацаньем клыков
Кривятся несытою усмешкой
Порожденья темени кромешной
С красными бичами языков…
Дайте покаяния и света!
Отпусти, изыйди, Сатана!
Скачут Тени в диких пируэтах,
И опять холодная стена
Сколько можно, нервы рвутся в клочья,
Финишная близится черта…
Вместо слов – цепочки многоточий,
Вместо света – мрак и пустота
Где конец? По капле жизнь исходит,
В полночь стрелки челюсти сомкнут…
Затихают отзвуки мелодий,
На закате солнце не восходит,
После плахи Души отдохнут…
«Гитара… Где гитара? Ритм уже родился, теперь надо сделать так, чтобы пальцы его запомнили и накрепко связали с текстом… В этих сталинских домах звукоизоляция не чета „хрущовкам“, да и орать-выкладываться мы не будем…»
Гитара отозвалась на прикосновение пальцев к струнам чуть жалобно, словно укоряя за вчерашнее, но потом заговорила, привычно превращая услышанное и записанное в звучащее. И в довершение всего, нога наткнулась под столом на бутылку, в которой необъяснимым чудом сохранилась почти треть содержимого.
«Значит, до утра доживём…».
Он выплеснул зелье в стакан, выглотал его одним судорожным движением горла и уткнулся лицом в подушку, уходя в тяжёлый, без сновидений, сон…