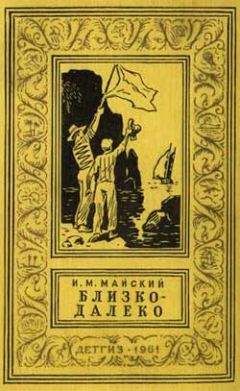— Ничего, — сказал Аракелов. — Теперь я тебя всегда узнаю. Всегда и везде.
— Посмотрим, — хихикнуло облачко сепии, окончательно расплываясь, растворяясь в сгустившейся вокруг тьме. — Посмотрим… А пойдешь ли ты еще хоть раз вниз? Разве трусы ходят вниз? И разве их пускают сюда?..
— Пойду! — заорал Аракелов, бросаясь вперед, на голос. — Вот увидишь, пойду!
Он сделал мощный рывок, но голова уперлась во что-то холодное, жесткое, и он проснулся.
Было совсем темно. Значит, проспал он долго и уже наступила ночь. Он лежал на боку, упираясь лбом в холодный пластик переборки. Хотелось пить. Аракелов повернулся и сел. И тогда увидел, что за столом кто-то сидит. Кто — разобрать было невозможно: из-за плотно зашторенного иллюминатора свет в каюту не проникал. Он протянул руку к выключателю.
— Проснулся? — Это была Марийка.
— Ты? Здесь? — От удивления Аракелов даже забыл, что собирался сделать.
— Да… — В голосе ее прозвучала непривычная робость. — Понимаешь, мне нужно было увидеть тебя первой. До того, как ты увидишь других. Вот я и пришла.
Аракелов ничего не понимал. Голова спросонок была тяжелой — может быть из-за снотворного. Он протянул руку и нащупал часы. Поднес их к глазам: слабо светящиеся стрелки показывали почти полночь.
— Ты не хочешь разговаривать со мной?
— Сейчас, — хрипло сказал Аракелов. Он пошарил по столику: где-то здесь должен быть стакан с соком. Он всегда в первую ночь после работы внизу ставил рядом с постелью сок и, просыпаясь, пил. Это так и называлось: постбаролитовая жажда. Ах да, спохватился он. Зададаев… снотворное… Значит, соку нет. Но стакан неожиданно нашелся. Ай да Витальич! Кисловатый яблочный сок привел Аракелова в себя.
— Саша… — Марийка подошла, села рядом. — Ты не простишь мне этого, Сашка, да?
— Чего? — не понял Аракелов. Он обнял Марийку и вдруг почувствовал, что плечи у нее мелко-мелко вздрагивают. — Да что с тобой?
Марийка откровенно всхлипнула.
— Я так и знала, что не простишь…
— Ничего не понимаю! — Аракелов растерялся.
Марийка подняла голову.
— Значит, ты не знаешь? Тебе не сказали?
— Да чего?!
— Сашка, это ведь я…
— Ты?! — Все сразу встало на свои места. Перед Аракеловым мгновенно возникла залитая солнцем палуба и Марийка, томно раскинувшаяся в шезлонге… «Мне в «Марте» посидеть надо, на следующей станции она по моей программе работать будет». И зададаевские умолчания и увертки стали ясны. Эх, Витальич!..
— Значит, ты… — повторил Аракелов.
— Да, — сказала Марийка. — Понимаешь… Так получилось…
— Понимаю. — Аракелов отодвинулся от нее и оперся спиной о переборку. Ему было больно от обиды и обидно до боли. — Дух струсил, надо нос ему утереть. Понимаю.
— Ничего ты не понимаешь! Я же люблю тебя, дурака! И знаю, что ты не струсил, ты не мог. Это они говорили, что ты струсил…
— Они?
— Ну да. Я в «Марте» сидела, люк был открыт, а они рядом встали…
— Кто?
— Жорка, Поволяев и еще кто-то, я их не видела, только слышала. И говорили, что ты струсил. Мол, батиандры со своей исключительностью носятся, подумаешь, дефицитная профессия, нужно им себя беречь для грядущих подвигов… А что человек погибает — ему наплевать, духу нашему… И в таком роде.
— Та-ак, — сказал медленно Аракелов. — Ясно. — Это он предвидел еще внизу.
— И я к ним не вышла. Понимаешь, не вышла. Сама не знаю, почему. Побоялась, что ли?
— Чего?
— Не знаю. Я бы, наверно, им по рожам надавала.
«Стоило бы, — подумал Аракелов. — Но это я могу и сам».
— И что же ты сделала?
— Когда они отошли, вылезла, поставила слип на автоспуск. Я видела, как это делают…
— Ясно, — сказал Аракелов.
В принципе, в этом не было ничего невозможного. Отмотать метров двадцать троса на барабан носовой лебедки «Марты», застопорить судовую лебедку, а потом помаленьку стравливать трос, соразмеряясь с опусканием слипа. Для опытного водителя это не представляло особого труда. Но как справилась с этим Марийка? Ведь опыта работы с «Мартой» у нее с гулькин нос… И как никто ей не помешал? Ведь слип скрежещет так, что только в баролифте не слышно! Конечно, когда «Марта» уже пошла к воде, остановить ее было бы нельзя, но до того? Куда смотрел вахтенный? «Мда-а, — подумал он, — дисциплинка… Пораспустил народ Ягуарыч…»
— И никто тебя не остановил?
— Нет…
— Молодцы! — искренне восхитился Аракелов. На мгновение ему даже стало весело. — Хоть судно укради, не заметят, если есть о чем посудачить!.. Но на кой черт ты полезла? Зачем?
— За тем, что я слышать не могла, как они про тебя… Понимаешь? Я уже все знала — и про патрульники и про «рыбку». И понимала, что ты там сидишь и думаешь…
— Вот и не лезла бы. Лучше бы сама подумала…
— Я и думала. Что тебе экспериментальные данные нужны. И что если даже «Марта»… не пройдет… Ты скорее сообразишь, что к чему.
До Аракелова дошло не сразу: слишком уж нелепо это было. Нелепо, немыслимо, невозможно!
— Дура! — заорал он, забыв, что уже ночь, что за тонкими переборками каюты давно спят. — Ты соображаешь, что говоришь?
— Да, — тихо сказала Марийка, и Аракелов осекся. — И когда делала, тоже соображала. Только что все вот так получится — не сообразила.
Аракелов обнял ее, прижал к себе, гладил по волосам, целовал мокрое от слез лицо, шею, руки…
— Дура, — задыхаясь бормотал он, — сумасшедшая, ненормальная… Что бы я без тебя делать стал, а?
— А что ты будешь делать со мной? — печально спросила Марийка. — Ведь ты… Ты же мне не простишь. И прав будешь.
Он обнял ее еще крепче. Что-то больно впилось ему в грудь. Он чуть отстранился и пощупал. Это была та самая веточка «ангельского коралла»… Она подумала даже об этом, идя к нему…
«Руслан» тогда простоял четверо суток в Кэрнсе, и Аракелову и еще двоим аквалангистам удалось на пару дней съездить в Куктаун по приглашению местного клуба рифкомберов. Как Аракелову повезло наткнуться на «ангельский коралл», он и сам не мог понять. Этот полип редок, очень редок, а в этих местах до сих пор его не находили вообще. Да Аракелов и не знал, что нашел. Просто его поразил коралловый куст: никогда еще он не видел такого богатства оттенков красного цвета. Он отломил веточку и спрятал в сетку. Просто так, на память. А когда позже, на берегу, ему объяснили, что это, — план созрел мгновенно. Вернувшись на «Руслан», он посоветовался с корабельными умельцами, больше недели проводил все вечера в каюте, возясь с лаками, клеями и так далее, но зато потом подарил Марийке вот эту самую брошь.