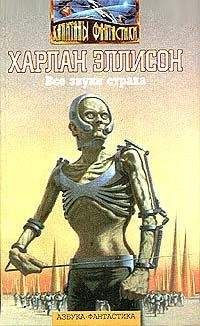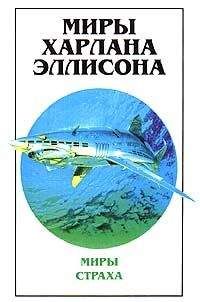ГФЛ, что всерьез обсуждалась возможность запустить в меня вишневым тортом на очередном конвенте.
На съезде любителей фэнтези в Форт-Уэрте в 1978-м до меня дошли слухи, что один из членов этой группы все-таки прибегнет к такой своеобразной форме литературной критики. Пара мускулистых фанатов, увлекавшихся боевыми искусствами, назначили себя моими телохранителями. Когда я закончил свой доклад, ко мне направился молодой человек с коричневым бумажным пакетом как раз подходящего размера. Мои защитники спросили его, чего он хочет. Он, не говоря ни слова, повернулся и ушел. Так я точно и не узнал, что было в том пакете. Но груз своего невежества я несу стоически.
От Боба и Джинни Хайнлайн.
–
Дорогой Харлан!
Так как мы отступили под защиту…
[Запомните это, ребята!],
… под защиту не включенного в справочник телефонного номера, сетчатого забора и электрических ворот, то от жутких историй практически избавлены. Но одна все же есть.
Однажды вечером я работала у себя в кабинете. Высоко в двери у нас вставлена стеклянная панель, но чтобы заглянуть через нее в дом надо быть настоящим гигантом. В дверь позвонили. Я удивилась, потому что в ворота никто не заходил, и открыла дверь. Там стоял какой-то подонок. Первые его слова были: «Кто-то убил моего павлина!»
Боюсь, что велела ему убираться. «А если не уберется, – пригрозила я, – позвоню в полицию».
Больше он через изгородь не лазил, но несколько дней подряд мы находили в почтовом ящике что-то вроде проволочной «фигурки». Каждый день новую. И письма. И так далее. Больше этот тип мне на глаза не попадался, но я его не забыла…
Пока мы жили в Колорадо, к нам постоянно приходили незваные гости, и здесь их тоже было немало, пока мы не поставили ворота. Однажды, когда мы устраивали прием с коктейлями, Роберту позвонила какая-то женщина из Канзаса: она хотела знать, надо ли ей ложиться в психиатрическую клинику в Хьюстоне. И на деревья нам вешали туалетную бумагу, и много чего еще было. Даже красивую табличку, висевшую на доме, и ту украли.
–
А вот кратко. Раймонд Э. Фэйст рассказывает про фаната, который пришел к его двери в воскресенье утром – еще семи не было, – когда Рэй валялся с температурой под тридцать девять после беспокойной ночи и только-только начал засыпать. Подходит он к двери, шатаясь, вид у него – краше в гроб кладут, а там стоит этакий жизнерадостный фанат-херувимчик с пакетом книг на подпись. Около дюжины будет. А поскольку Рэй к тому времени выпустил только три-четыре романа, мальчик прихватил по три экземпляра каждого, вероятно, чтобы потом продать.
И вот он требует, чтобы Рэй подписал книги прямо здесь и сейчас. Рэй ему говорит:
– Слушайте, не хочу быть грубым, но я чертовски болен, температура сто два [167], и чувствую себя хреново.
Пацан моргает, но с места не трогается. Рэй ему говорит:
– Приходите в другой раз, сейчас, сами видите, неудобно.
А мальчик ему отвечает:
– Я сегодня улетаю домой на Гавайи.
Рэй шмыгает носом, мямлит:
– Ну я же болен, видите… может быть, вы…
Но мальчик, демонстрируя все то же абсолютное отсутствие деликатности, продолжает требовать, чтобы ему подписали книжки.
«Вот этот случай, – пишет Рэй, – да еще угрозы, записанные на автоответчик, и убедили меня изъять мой номер из справочника».
Еще один крупный писатель, с которым я связался, когда готовил эту статью, так нервничал из-за возможных неприятностей с фанатами, что называл этих последних не иначе как «дебильными подонками». Он категорически запретил мне упоминать его имя каким бы то ни было образом. Он сказал, что посещение конвентов настолько мешало его работе, что единственное, чего он хочет, – это чтобы фанаты больше никогда не появлялись в его жизни.
Нет, я вас не дразню. Некоторые литераторы в ответ на мою просьбу написали, что стараются держаться от фанатов подальше, сторонятся конвентов и потому мрачных историй рассказать не могут. Было с полдюжины: Марвин Кей, Альгис Будрис, Дин Инг, Джон Варли, Джек Уильямсон, Дэвид Бишоф, которые ответили, что ничего, кроме добра за много счастливых лет общения с фанатами не видели, и простите, но им просто нечего тут рассказать. Но эти письма были написаны в июне 1984-го, и с тех пор четверо из этой группы признали, что некоторые неприятные переживания у них все же были – они даже перечислили, едко и с подробностями, эти случаи, – просто не хотели поднимать шума ранее.
Да, но что же Джоанна Расс? Если был на свете писатель более страстный и откровенный в высказывании своих мыслей в искусстве и в обществе, писатель, более честно рассказывающий о своих переживаниях в своем творчестве, то я ума не приложу, кто бы это мог быть. В отличие от многих из тех, к кому я обращался, тех, кто отвечал взвешенно из страха, что кто-нибудь из этих маленьких миленьких психов потребует удовлетворения, Джоанна была откровенна и написала так:
–
Ага. Значит, худшее.
Ладно. Помимо тех, кто присылает рукописи романа с просьбой подробно рассказать им, куда эти рукописи послать (я за одну только текущую неделю получила целых три!) без марок…
Наверно, худшее было несколько лет назад в Боулдере, когда я получила письмо – судя по всему, от старшеклассницы, – в котором меня просили ответить на вопросы трехстраничной анкеты о моей «жизненной философии», потому что учитель моей корреспондентки дал всему классу задание написать статью о живом писателе. Еще она попросила меня прислать по одному экземпляру всего, что было мной написано.
Я ответила мягко, объяснив со всей доступной мне тактичностью, что ни один живущий писатель не располагает временем, чтобы отвечать на трехстраничную анкету о чем бы то ни было, и что у меня едва ли найдется по одному экземпляру всех моих книг для себя самой, так что я предложила ей самой купить некоторые из изданий (поскольку мне тоже пришлось заплатить за свои), а еще я посоветовала ей спросить своего учителя о том, как работать с библиотечными книгами, потому что, подозреваю, именно это учитель и имел в виду, когда давал задание. В конце письма я пожелала ей успехов в работе.
Через пару недель пришло письмо от ее старшей сестры, которая грозила разоблачить меня в журнале «Ms.» и еще некоторых, потому что мой жестокосердный ответ омрачил жизнь и будущую карьеру ее сестры. Сестра (писала старшая) собиралась стать писательницей, но после моей черствой и злобной отповеди она целыми днями лежит в кровати и плачет. Я разбила всю ее жизнь. (Я не придумываю.)
Такое ощущение,
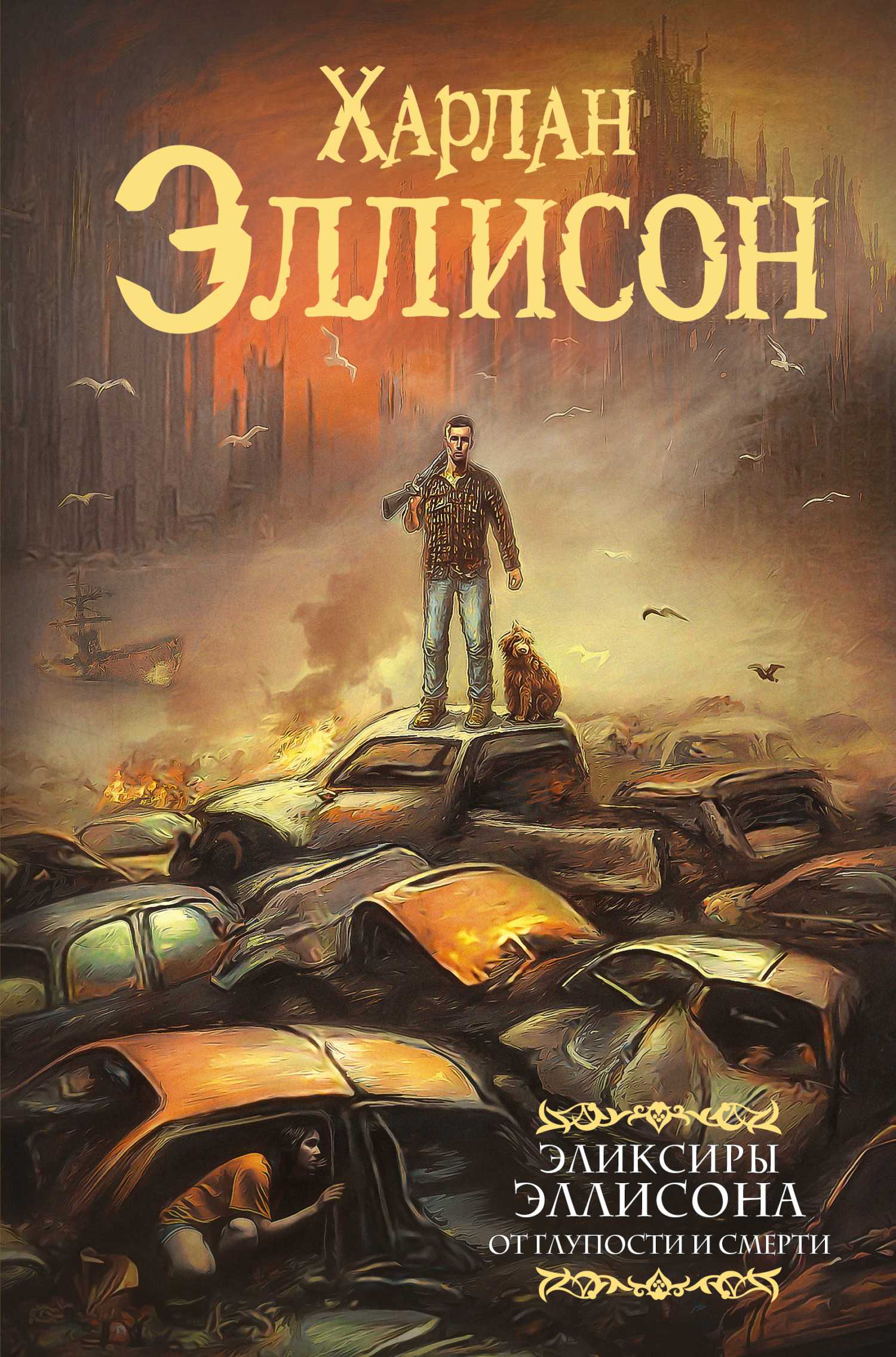
![Харлан Эллисон - Парень и его пес [другой перевод]](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)