Ознакомительная версия.
Грабец остановился, недоговорив.
— Так и лезет на язык грязное слово, — через несколько секунд произнес он, — но что тут поделать: грязно все, что окружает нас. Нужно либо вырваться из этого, либо подохнуть. Сейчас должно начаться обратное движение — прилив уже много веков отступающего моря. Начнется новая священная война и завоевание, а верней, осуществление высочайших, но отнюдь не всеобщих прав. Нам сейчас нужны не свобода, но власть и рабство, не равенство, но различия, не братство, но борьба! Мир принадлежит людям высочайшего духа!
— И какие же силы вы видите своими союзниками в этой борьбе? — поинтересовался Яцек, поднимая на него глаза. — С одной стороны, общество с совершенной организацией, довольное нынешним своим состоянием и готовое защищать его всеми средствами, а с другой?
— Мы.
— То есть?
— Творцы, мыслители, обладающие знанием, — одним словом, те, кто жив.
— Похоже, вы сочиняете драму.
— Нет, я хочу жизни. Творю жизнь. Можно возмутить рабочих, огромную массу, которая, как Атлас, держит мир на своих плечах. Пусть-ка они тряхнут его! Они предпочтут служить великим, а не чиновничьей сволочи, всем этим отставникам, бессмысленным бездельникам и дармоедам.
— Это иллюзия.
— Впрочем…
— Да?
— Вы сами являетесь силой. У вас — знание, у вас — могущество.
Яцек медленно, но решительно покачал головой и произнес с какой-то внутренней гордостью:
— Нет, сударь. Только знание. Могущество, которое оно несет с собой, все изобретения и практическое их применение мы отдаем человечеству для совместного использования. И это как раз то, что вы называете нашим прислуживанием. Себе мы оставляем знание, потому что из толпы никто не сможет воспринять его. Более ничего.
Грабец с любопытством глянул на Яцека, словно у него были основания не вполне верить, что все свое страшное, безмерное могущество, основой которого является знание, тот отдает толпе, однако он сдержался и невозмутимо осведомился:
— Что же, и так должно быть всегда?
— Я не вижу выхода. Подчиняясь закону всемирного тяготения, вода, плодотворящая поля, устремляется с поднебесных ледников вниз, в долины.
— Красивое сравнение. А вам известно, что эта вода разрушает горы и смывает их с поверхности Земли, чтобы поднять общий уровень на толщину пальца, чтобы еле заметно изменить морское дно? В конце концов все станет плоским. Гор и ледников не станет, но равнины к небу не поднимутся.
— Но гаснут ведь и звезды, исчерпав на обогревание бесплодного пространства свою энергию. Это закон природы, которому подчиняется и Земля, и вселенная, и человеческое общество.
— Так, но не совсем. По законам природы погасшие солнца сталкиваются, чтобы из них родились новые туманности, беременные будущими мирами; по законам природы внутренний огонь из глубин Земли выталкивает новые горные цепи. Но прежде возрождения всегда приходит гибель! И нам тоже необходимо землетрясение, что превратит города в развалины и наизнанку вывернет целые материки.
— А если после него не расцветет жизнь?
— Расцветет, иначе быть не может.
Яцек в задумчивости склонил голову.
— Власть, действие, битва, жизнь… А не переоцениваете ли вы людей, которые целиком посвятили себя мысли? Я уж не говорю о борьбе, но допустим невероятное: восстанут люди высокого духа и с помощью, уж не знаю даже чего, может быть, своего знания и гения, может быть, рабочих масс, ныне спокойно дремлющих, масс, неизменно обманываемых и используемых ради чужих целей и интересов, одержат победу. И что дальше? Вы говорите, что подлинное, великое искусство сейчас стало всего-навсего бессмысленным и жалким выходом энергии духа, которая могла бы проявиться в действии. Так вот — это заблуждение. Не сможет. Наша мысль отделилась от наших поступков, и нам только кажется, что она сможет вернуться и соединиться с ними. Оставайтесь, сударь, с театром и со своими пьесами, что играются в нем, а нам позвольте остаться в бескрайнем мире мысли, куда не способен вторгнуться непосвященный. Не имеет смысла сходить вниз.
— А лорд Тедуин? — бросил Грабец.
На миг воцарилось молчание.
— Лорд Тедуин, — промолвил Яцек, — оставил власть и сейчас является только мудрецом. И это доказывает, что сейчас сочетать жизнь и мысль невозможно. Так что оставьте нас в покое.
— Это ваше последнее слово? — угрюмо насупив брови, поинтересовался Грабец.
То ли в его голосе, то ли в выражении лица что-то поразило Яцека, и он посмотрел Грабецу в глаза.
— Почему вы так спрашиваете?
Грабец наклонился к Яцеку.
— А если бы я вам сказал, что Земля уже дрожит, что под ее застывшей скорлупой уже вздымается волна огненной лавы, то и тогда?
Яцек вскинул голову. Некоторое время они молча смотрели друг другу в глаза.
— То и тогда?.. — повторил Грабец.
Яцек долго не отвечал. Наконец поднялся и спокойно, но твердо произнес:
— Да. Даже и тогда я не дам другого ответа. Я не верю в движение в толпе и вместе с нею. А теперь послушайте меня: то, что существует, мерзко, но когда отвращение пересилит во мне все остальные чувства, когда я окончательно усомнюсь и решу, что лучше гибель, чем такая жизнь, что гибель — последнее средство остановить надвигающийся на нас потоп ничтожности, все необходимое я сделаю сам.
После этих слов Яцек кивнул Грабецу и направился в сторону города.
— Иду срывать банк, — сказал себе Лахеч, пересчитывая деньги, еще оставшиеся от гонорара, уплаченного Товариществом Международных Театров.
Было их немного; не считая серебра, которое за игорным столом не принимали, чуть больше двадцати золотых монет. Лахеч улыбнулся.
— Тем лучше. Больше не смогу проиграть.
И все же он испытывал непонятную грусть. У него вызывали робость заполняющие роскошный вестибюль казино нарядные, элегантные мужчины, смеющиеся женщины с обнаженными плечами, овеянные ароматами дорогих духов. Ему чудилось, что, проходя мимо, они мельком бросают на него насмешливые взгляды, мысленно издеваются над его дурно сшитым костюмом, несуразной фигурой. Тщетно пытался он принять независимый, самоуверенный вид. Он уже забыл, что еще вчера все эти люди сходили с ума, слушая его музыку, и чувствовал себя рядом с ними маленьким, запуганным, нелепым и ничтожным.
Ему хотелось как можно скорей затеряться в толпе. У дверей Лахеч отдал входной билет и вошел в зал. До слуха долетел такой знакомый, щекочущий, дробный звон пересыпаемых золотых монет. Все столы были плотно окружены. Позади сидящих в креслах стоял еще ряд, а то и два, и эти люди бросали свои ставки через плечи тех, кто сидел. Раньше Лахечу нравилось, прежде чем начать игру, побродить по залу, наблюдать за лицами и жестами, ловить разговоры, немногословные, отрывистые, но такие красноречивые. Но теперь он испытывал какое-то внутреннее беспокойство, ему не терпелось поскорее самому вступить в игру. Он стремительно прошел через первый и второй залы, даже не глянув на игроков, и только в третьем осмотрелся, нет ли где свободного места.
Ознакомительная версия.
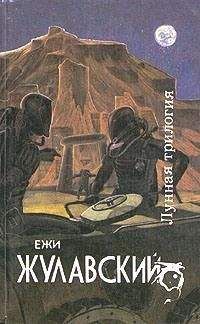
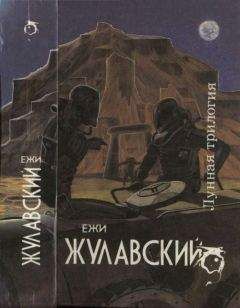

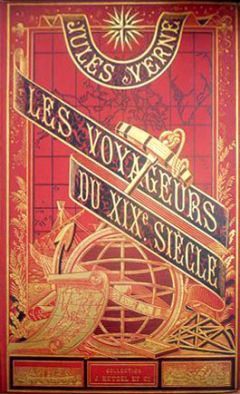
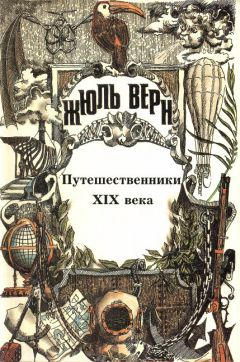
![Гарри Гаррисон - Стань стальной крысой! (Книга-игра) [Ты можешь стать Стальной Крысой!]](https://cdn.my-library.info/books/292/292.jpg)