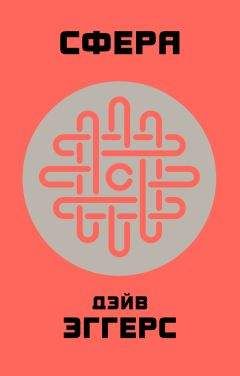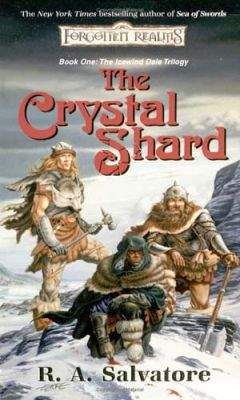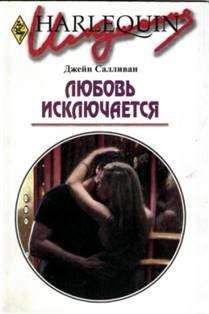— Мы три оставим. Мы налопались до треска. Ага, Яш?
Яшка мягко положил вилку, подпер подбородок и смотрел на маму. Стасик тоже на нее посмотрел. Мама у двери склонилась над корытом, спиной к ребятам. В темных гладких волосах ее, в тугом валике на затылке блестели под лампочкой седые нити. Стасику вдруг стало так жаль маму, что намокли глаза. Яшка посмотрел на него — внимательно и чуть виновато, — потом снова отвернулся. Тихо дохнул на ладонь, вытер ее о лоб, медленно протянул руку в сторону мамы. Словно хотел дотянуться, погладить ее по голове. Не дотянулся, конечно, ладонью провел по воздуху… Седина стала быстро темнеть и пропала.
Стасик, чтобы не разреветься, закусил губу и стал разглядывать узор на потертой голубой клеенке.
Сосед Андрей Игнатьевич подарил ребятам (несмотря на ворчание тети Глаши) два листа фанеры, кусок толя для крыши и большой обрывок рыболовной сети. Поэтому домик соорудили быстро. Поставили его в углу двора, у забора, где росли старые кустистые рябины. Вместо передней стенки натянули сеть, вплели в нее ветки и всякую траву. Как в лесной хижине. Но и окошко, будто в настоящем доме, сделали тоже — в боковой стене. Для него нашлась настоящая маленькая рама с переплетом — видимо, от чердачного окна. Раскопали ее под навесом среди старой мебели. Стекол в раме не было, но Стасик и Яшка затянули ее промасленной бумагой. Смотреть сквозь такое окно нельзя, зато оно хорошо светится, когда в хижине керосиновая лампа.
— Только не спалите свой дворец и себя, — говорила мама.
— Мы осторожненько…
Подмазывалась, конечно, к ним Зяма. Чтобы приняли в жильцы домика. Стасик и Яшка не гнали ее откровенно, однако не очень и приветствовали. Зяма дулась и один раз даже ревела. Но скоро мать отправила ее в лагерь на третью смену.
А маленького Вовку Пантюхина они всегда встречали по-хорошему. Он был трудолюбивый и ничуть не надоедливый.
Из поленьев и досок соорудили топчан, из старых ватников — постель. Теперь оставалось главное: чтобы Яшка мог ночевать здесь часто, не вызывая ни у кого подозрения.
И однажды вечером на кухне (когда Яшки не было) Стасик начал подъезжать к маме:
— Напиши письмо в детдом, чтобы Яшку отпустили пожить у нас. Ну, хоть на недельку!.. Спать в домике будем. А днем мы — и на рынок, и за хлебом, и посуду мыть, и пол…
— Свежо предание… — вздохнула мама. Она чего-то опасалась.
— Ну, что он, много лишнего, что ли, съест у нас? — в сердцах сказал Стасик.
— Дурень ты. Разве я об этом?
И вдруг вмешалась Полина Платоновна, которая варила на керосинке тыквенную кашу:
— Галина Викторовна, давайте я письмо напишу. Что приглашаю мальчика на свою ответственность. Мне будет приятно…
— Да что вы! — смутилась мама. — Я и сама…
— Нет-нет, позвольте мне. Очень вас прошу…
Так и сделали. А в ответ на письмо Яшка соорудил из тетрадного листа справку с лиловым штемпелем Заречного детдома и сообщением, что «воспитанник Скицын Яков 10-ти лет отпускается на каникулы к гр. Подбельской П.П. (Катерный пер., 3), на жительство и под ее ответственность с 4-го по 14-е авг. 1948 г.».
— А фамилию-то ты зачем такую сделал? — смущенно сказал Стасик. — Неправдоподобно как-то…
— Ох… Само получилось. Я же не знал какую… Теперь фиг переделаешь, я справку уже показывал тете Поле.
— Ладно. Может, не заметят.
Полина Платоновна ничего не спросила, а мама, конечно, сказала:
— Это что же? У Яши такая фамилия, как у нас?
— Да! — вывернулся Стасик. — Мы, когда познакомились, сами удивились! Мы, наверно, потому и подружились, верно, Яшка?
Тот добавил правдоподобную деталь:
— Ага!.. Вообще-то, у меня правильно писать надо «Скитцын», да в детдоме всегда путают…
— Ну и ну… — Мама покачала головой.
— А у тебя седина пропала! — быстренько сменил тему Стасик. — Ты заметила?
— Еще бы! На работе все мне только об этом и говорят. Спрашивают, не покрасилась ли так ловко. У тебя, говорят, парикмахерша знакомая. А я что, с ума сошла на старости лет волосы красить?
— Никакая не старость лет! Не выдумывай.
Иногда по ночам налетали грозы, и тогда в домике было жутковато, но все равно здорово. Дождь барабанно лупил по крыше, фанерные стены гудели, как гитарный корпус, в щелях и промасленной бумаге зажигалось белое пламя молний. Гром трахал, как снаряды в кино про войну. А Яшка успокаивал:
— Не бойся, Вильсон, я отведу напряжение, когда молния близко.
— Да не боюсь я, — с боязливым восторгом шептал Стасик и прижимался под одеялом к теплому надежному Яшкиному плечу…
Но чаще ночи были ясные, и зеленоватыми лучами пробивалась сквозь траву и сеть луна. Тогда Вильсон и Яшка вели долгие разговоры. И Стасик понял, что не всегда Яшка веселый и беззаботный… Однажды Яшка сказал:
— Иногда думаю: кто же я все-таки на самом деле?
— А разве… ты не знаешь?
— Бывает, что и не знаю. Белый шарик или Яшка?
— Ну… и то и другое…
— А можно ли, чтобы и то и другое? Человек и звезда…
— Но… ведь можно же! Раз ты есть, вот такой!
— А какой?.. Вильсон, знаешь, это я благодаря тебе понял, как хорошо быть звездой. Раньше казалось, что все обыкновенно, а когда стал тебе рассказывать про те свои дела, про Кристалл, то будто со стороны увидел…
— Ну и хорошо. — Стасик подавил невольную зависть.
Яшка сказал печально:
— А чего хорошего? Звезда-то из меня так, третий сорт… Или еще хуже. Шары правильно ругают…
— Чего правильно! Ты черное покрывало уничтожил!
— Ну, уничтожил… И еще кое-что сделал, только все равно мало. И даже там веду себя как человек.
— А это, что ли, тоже плохо? — спросил Стасик ревниво.
— Не в том дело. Если бы я человек был настоящий…
— А ты какой? Искусственный, по-твоему?
— Может, и да… Я иногда боюсь, что просто играю в человека. Вы тут на Земле живете так… по-настоящему. Трудности всякие бывают и горе. А я будто на праздник прихожу, в гости.
— Ничего себе «в гости»! Ты вон сколько хорошего сделал!
— Опять потому, что я не человек, а… шарик. А вот если совсем по-человечески, я, наверное, не умею.
Стасик помолчал, отодвинулся даже чуть-чуть. Спросил с тяжкой неловкостью, с боязнью горького открытия:
— А вот со мной… то, что ты подружился… Это, значит, тоже играешь?