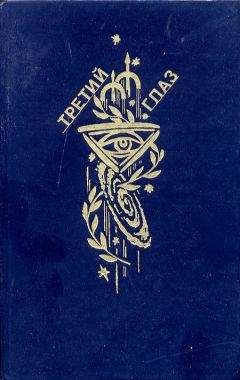– Не думаю, что в нашем случае автоматы актуальны, Никодим Сергеевич. Тут дело, похоже, тонкое. Лобзиком будут пилить.
– Знающие люди говорят, это ещё приятнее…
Вот так мы балагурили, чтобы нехорошие мурашки перестали бегать по коже. Удалось. Постепенно острота ощущений снизилась до степени этак предэкзаменационного мандража – когда два, в общем-то, вполне подготовленных студента, то ли считая мандраж хорошим тоном, то ли чтобы излишней уверенностью своей не гневить и не искушать богов, весело трясутся у входа в аудиторию и зубоскалят напропалую.
Тогда только попрощались.
Получается, отстаю я, причем даже не знаю, на сколько ходов. Вообще ничего пока не знаю. Мяв и когти из мрака. Тоска, кошмар…
Я снова позвонил Кире. И там снова никто не подошел. Кира работает, отец её работает, Глеб гуляет или у приятелей сидит… Все могу понять. Но тещу-то где носит?
Кира работает… Но, коль скоро дома её нет в такое время, то – НЕ НАД ДИССЕРТАЦИЕЙ. По нашему пациенту она работает.
Тоска, господа, тоска.
Но, может, и к лучшему, что никого. О чем теперь говорить-то нам? О работе только – но я сейчас работой сыт по горло. Как выразились бы хак-хаки – оверсайзная она уже какая-то стала, работа эта; а запускать драйв-спэйс нету масти.
Ожидать услышать чего-то вроде: миленький, замечательный мой Антошенька, да как же я люблю-то тебя, родной мой, да как же я по тебе соскучилась – не приходится. С чего бы это Киру так понесло теперь?
Принял решение, совершил несколько поступков, этим решением обусловленных – так и нечего теперь душу рвать себе и ей. Был в Керчи – так молчи.
В Судаке.
Чтобы хоть как-то облегчить себе жизнь на остаток вечера, я попробовал подергать памятью мрачные обугленные четки связанных с Кирой НЕПРИЯТНЫХ воспоминаний. Обидных. Отчуждающих и отторгающих. Как она, прекрасно зная мое культовое отношение к нашей исходной обители, к махусенькому Эдему нашему с коричневыми раздвижными решетками на окнах, которые мы ни разу не сдвигали – хладнокровно и вроде бы даже нарочито замечала: никаких, честно сказать, приятных воспоминаний у меня с этим карцером не связалось, Антон. Тесно, душно. А уж когда Глеб появился – и вовсе невыносимо…
Или как однажды она сорвалась едва ли со злобой: ну нет у меня теперь той беззаветной любви, нет; но я та же, что была!
Интересный ход мысли.
Или…
Но, хоть убей, не вспоминалось плохого. Ощущалось нечто бесформенное и тяжелое, вроде как угрюмый черный бегемот топтал сердце; но конкретно – нет. Как назло, наоборот, заплескалось яркое, солнечное… За одно я мог поручиться: солнечного было больше в трех начальных годах – собственно, ничего иного там и не было; а черное, как на дрожжах, разрослось в течение трех последних лет, став нынче едва ли не основным.
И в одной этой статистике уже был приговор. Мне. Главным образом – мне. К высшей мере. Обжалованию не подлежит.
Ах, Кашинский, Кашинский… Чуешь ли, какое сокровище тебе вот-вот может достаться? Не проворонь, лапша ты этакая!
Взгляд сверху
Когда то ли на излете перестройки, то ли в первый год шоковых примочек – уж не вспомнить точно – Комитет про него забыл, Кашинский поначалу боялся поверить в привалившее счастье. Чтобы именно так, как ему мечталось все эти годы, безо всяких с его стороны усилий и жертв, естественным образом и вследствие внешнего хода вещей, удалось избавиться от унижения, уже казавшегося вечным… Вот так вот само по себе все ползло, расползалось – и доползло до свободы. Сказка! Сердце пело.
Недолго оно пело.
Да, всем оказалось несладко, все растерялись и не знали, как быть дальше. Ушел на пенсию после очередного инфаркта Вайсброд; сразу после путча растворился обманчивый гений Симагин… Лаборатория разваливалась на глазах – и развалилась вскоре. Карамышев что-то ещё пытался вытворять, но это уже никого не интересовало, ни дирекцию, ни органы. Вот откуда свалилась свобода. Как в старом анекдоте про Неуловимого Джо: неужто и впрямь Неуловимый? – да нет, просто не нужен никому.
Никому не нужен. Не нужен как мужчина. Не нужен как ученый. Не нужен как стукач. Даже как стукач стал не нужен!
Именно это неожиданным образом оказалось горше всего.
Ведь именно ЭТО у него получалось лучше всего. Именно вокруг этого, как на поверку-то выяснилось, денно и нощно крутились мысли и переживания; если бы не это, понял Вадим однажды, у них вообще не осталось бы оси. Именно этому он отдавал более всего эмоций – пусть горьких и тягостных, все равно: то и был его внутренний мир, его духовная жизнь, которой ни в малейшей мере не могли ему обеспечить ни наука, ни секс, ни вообще что бы то ни было.
Ведь не только тягостными они бывали, не только горькими. Они давали и чувство полноценности, чувство превосходства хотя бы в чем-то – а без превосходства ХОТЯ БЫ В ЧЕМ-ТО человек жить не может. Ты лучше бегаешь – я лучше прыгаю, значит, все в порядке, никому не обидно, можем дружить. Ты лучше вычисляешь – я лучше за этим слежу… Гармония. Теперь гармония рухнула. Жизнь стала пустой.
Он сменил место работы, потом ещё раз сменил. Но это не помогало. Какое-то всем заметное проклятие, наверное, висело над ним; наверное, эти годы оставили свой неизгладимый след, и он, вроде бы ещё живой, вроде бы ещё не старый и не глупый человек, догнивал во вмятине этого следа расплющенным ошметком. И к нему относились соответственно. Не сразу – поначалу он производил впечатление: обаятельный, интеллигентный, остроумный, начитанный, с какой-то романтической усталостью, с тайной бедой на сердце… но обязательно, непременно, неотвратимо через какие-нибудь два-три месяца его начинали держать за человека второго сорта. За сявку. Уверенные и наглые, не отягощенные никакой рефлексией пацаны, которым он вежливо говорил «вы», начинали бросать ему «ты»; он им по-прежнему, подчеркнуто: «вы» – а они ему по-прежнему, будто и не замечая его потуг поставить себя: «ты»…
От одного этого можно было повеситься или взбеситься.
Прошло много лет, и девяностые успели смениться нулевыми, прежде чем он вдруг ощутил, что груз, о давлении которого он и думать забыл… который, оказывается, все ещё громоздился у него на плечах – начал легчать.
Поначалу он не поверил себе. Это происходило настолько медленно, настолько подспудно, что он долго относил происходящее не к климатическим, а к погодным изменениям души; ну, сегодня вроде нет такой тоски, наверное потому, что скоро отпуск, можно будет уехать и никого не видеть; а потом опять будет тоска. Однако изменения оказались климатическими.
Оледенение сменилось потеплением.