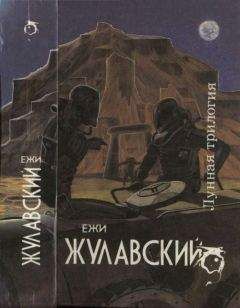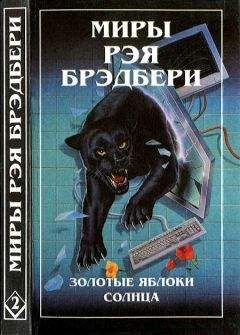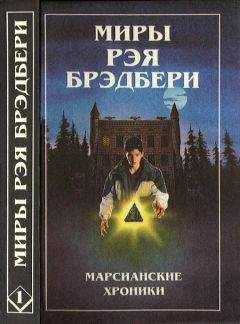«Если рост селенитов пропорционален массе их планеты, — предполагает капитан Николь, — они будут казаться нам просто карликами, ростом не больше фута». И в полном соответствии с этой жюль-верновской версией потомки Томаса, Фарадоля и Марты превращаются на Луне в карликов. Только к спокойной естественнонаучной гипотезе примешивается здесь и грустная метафора — мельчает народ… Метаморфоза, очень характерная для пессимистических умонастроений Жулавского. А ведь к его услугам были и другие описания селенитов: У Ле Фора и Графиньи, например, рост их достигал трех с половиной метров, а у Андре Лори — даже без малого десяти. Но Жюль Верн, обожаемый с детства Жюль Верн!.. Да и метафора, заметим, напрашивалась бы совсем иная.
Облетая Луну, герои Жюля Верна при вспышке болида видят на обратной ее стороне …огромные пространства, но уже не бесплодных низин, а настоящих морей, многочисленных огромных океанов, отражавших в зеркале своих вод сказочный ослепительный фейерверк, горевший над ними в эфире. И, наконец, на поверхности материков выступали обширные темные пятна, напоминавшие гигантские леса, освещенные на мгновение ослепительной молнией. Был ли это мираж, иллюзия, оптический обман? Скрупулезный и дотошный Жюль Верн ограничился этими строчками и вопросительным знаком в конце. Может быть, все это и впрямь лишь почудилось Барбикену, капитану Николю и Мишелю Ардану, на самом же деле обратная сторона Луны столь же мертва, как это и есть в действительности. Но Жулавского подобные соображения не сдерживали. И там, где пассажирам вагона-снаряда «колумбиады» лишь поместились леса и воды, в «лунной трилогии» простираются обитаемые края, заселенные потомками людей и первожителями шернами.
Однако стоило героям Жулавского достичь то ли пригрезившейся пассажирам жюль-верновского вагона-снаряда, то ли действительно представшей на миг их глазам земли обетованной (или следует говорить «луны обетованной»?), как выяснилось, что влияние французского фантаста, и без того постепенно слабевшее, исчезло теперь совсем, подобно навек скрывшейся за горизонтом Земле. Отныне Жулавского интересовало совсем иное. Исследовательская экспедиция уже с середины романа постепенно стала превращаться в Исход. И библейское это слово появилось не случайно. Именно оно давало возможность писателю обратиться к своим историософским концепциям, к проблемам развития человечества, зарождения и формирования религий и философских воззрений… Всем этим он интересовался издавна. Не зря же в 1895 году он бросил Цюрихский Политехнический институт, успев уже отучиться там два года, чтобы перейти на философский факультет университета в Берне, где три года спустя ему была присуждена докторская степень за исследование «Проблемы причинности у Спинозы». Стоит также отметить, что он переводил на польский некоторые из книг Ветхого Завета, а в поэзии Жулавского были распространены библейские парафразы.
Теперь он сам стал демиургом — сотворил лунный мир, заселил его, дал семь веков свободно развиваться, а потом решил повнимательнее рассмотреть, что же из всего этого получилось. Так родился «Победоносец».
В его зачине вновь возникает — еле-еле слышно — отзвук жюль-верновского романа. «А я буду разыгрывать роль Гулливера! — восклицает Мишель Ардан. — Мы воплотим в жизнь легенду о великанах». Именно эту роль и предстоит сыграть Марку-Победоносцу (кстати, некоторые критики небезосновательно полагают, что имя Марк скрывает в себе анаграмму Мишель Ардан; если так, то цепочка тянется прелюбопытная: ведь Ардан — жюль-верновская анаграмма Надара, каковое имя являлось псевдонимом Феликса Турнашона). Поначалу Победоносец исполнен воистину ардановских удали и жизнелюбия, к которым примешивается элемент лихого всезнайства янки, попавшего ко двору короля Артура. Именно этого твеновского героя заставляет вспомнить история с вооружением войска лунного люда «огненным боем». Вот только успеха Марку эти новации не приносят. И здесь Жулавский предвосхитил некоторые геополитические концепции XX века, благодаря которым стало ясно, что решаются войны не столько благодаря превосходству в оружии и полководческим талантам, сколько соотношением демографических, экономических и социокультурных потенциалов. В книгах без малого столетней давности подобные прозрения встречаются не часто…
Вместе с ардановской отсылкой к Гулливеру в «лунную трилогию» входит, начиная с «Победоносца», и свифтовская сатирическая интонация. Правда, полное звучание она обретает лишь в финале — в трех блистательных версиях гибели Марка. Зато весь заключительный роман целиком насыщен духом Дублинского Декана. Впрочем, в ряду предтеч «Победоносца» трудно не упомянуть и «Остров пингвинов» Анатоля Франса (чуть было не сказал — и его же «Восстание ангелов», но оно вышло в свет лишь в 1914 году, то есть тремя годами позже «Древней Земли»; так что тут приходится говорить скорее об идеях, витающих в воздухе). Во всяком случае, как и впоследствии Франс, Жулавский отчетливо понимал всю тщетность и бессмысленность анархически-пролетарского бунта. Но и в эволюционное развитие он тоже не верил — земное общество через тысячу лет представлялось ему безрадостным, не имеющим ни цели существования, ни смысла жизни. Общественное развитие может завести только в тупик — путь лишь в совершенствовании индивидуального духа, в приобщении к высшим истинам, которого достиг Нианатилока.
Замечу, высказанные в литературном творчестве взгляды вступили в противоречие с собственной судьбой Жулавского. После начала Первой Мировой он поспешил записаться в формировавшиеся в Австрии легионы Пилсудского — войска, которые, воюя на стороне стран Тройственного Союза (Германии, Австро-Венгрии и Италии), должны были помочь разделенной Польше добиться объединения и независимости. Жулавский так и не успел повоевать, вскоре заразившись тифом, который и свел его в могилу. Но важно не это: на патриотический порыв способен лишь человек, верящий в будущее своей страны и своего народа, а следовательно — в конечном счете и человечества. Кто же станет воевать за дело, в которое не верит ни на грош? Так что пессимизм Жулавского шел исключительно от ума, тогда как сердце привело его в легионы Пилсудского. Контраст, заставляющий вспомнить строки Давида Самойлова:
…я душой
Матерьялист, но протестует разум,
— хотя внутренний конфликт у Жулавского был совсем иным, нежели у самойловского Пестеля…
Не могу не упомянуть и еще об одной черте, характерной для творца «лунной трилогии», — о его поразительном женоненавистничестве. Бог весть, откуда оно взялось — то ли почерпнуто было исключительно из модных веяний времени, из литературы тех лет; то ли испытал сам Жулавский какое-то горестное разочарование; то ли… Гадать можно до бесконечности. Но видно, как, вначале почти незаметное, чувство развивалось и крепло в нем на протяжении всех тех лет, на протяжении которых шла работа над трилогией.