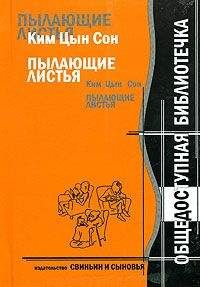Когда измученный, выдохшийся я выполз наконец на песок на другой стороне бухты, в колонии моргачей вовсю мелькали многочисленные огни. А выше, гораздо выше, скорее всего над Святой площадью, проступали сквозь влажный воздух знакомые очертания неоновых букв —
ШАМПУНЬ… ШАМПУНЬ… ШАМПУНЬ…
Я представил себе растерянную физиономию Габера, его промокшие от пота локоны, и блаженно растянулся на теплом песке. Дождь, вдруг пролившийся с темного невидимого неба, оказался кислым, противным на вкус, но он не мог испортить мне настроение. Я знал, что вертолет Консультации кружится где‑то вблизи, в невидимом, сожженном кислотами небе. И Джек Берримен не может не заметить меня. Ведь он ищет не просто Эла Миллера. Он ищет и свою удачу, потому что знает, что за всем этим стоит.
Восемь процентов.
Шеф, доктор Хэссоп, Джек Берримен, Кронер–младший и я расположились в демонстрационном зале.
— Эл, — попросил шеф. — Внимательно посмотри фильм. Собственно, это еще не фильм, это только нуждающиеся в монтаже эпизоды. Но уверен, ты что‑нибудь нам подскажешь.
Он подал знак, и свет погас.
Сноп лучей выбросился на экран, и прямо на нас глянуло жуткое, с выпученными глазами, лицо моргача, ухватившегося за ноги рвущегося голубя.
Мертвые дюны, ядовитая слизь, сочащаяся по бетонным желобам, ржавые трубы на каменных быках, низвергающие в бухту мертвую блевотину комбината “СГ”…
— Неплохо бы напомнить океанскую голубизну, — подсказал я. — Белоснежные паруса шхуны “Мария”.
Шеф согласно кивнул.
Плоский берег…
Горбатая тень пьяной рыбы…
Тусклые лица завсегдатаев бара “Креветка”, разбитое лицо Доктора Фула, таблицы химических анализов, мерзкие домишки Резервации моргачей, цветные дымы над трубами. А потом на фоне этих мертвых пейзажей, на фоне серых песчаных кос, забросанных омерзительной зеленой слизью, возникло энергичное живое лицо еще не старого, уверенного в себе человека. Улыбаясь, он бросал в озеро крошки раздавленной в ладони галеты.
— Президент “СГ”, — пояснил Джек Берримен.
По уверенному лицу президента пополз черный титр:
Гомо фабер…
Он обрывался многоточием.
…против Гомо сапиенс!
И мы увидели… Нойс.
Она стояла над пузырящейся кромкой ленивого гнилого наката. На ней был красный купальник, ослепительный даже на ее загорелом теле. Океан был мертв. Он пузырился, он цвел, он выдыхал гнилостные миазмы. Казалось, Нойс тонет в этих тяжелых испарениях. Ей нечего было противопоставить смерти.
— Кто эта красавица?
— Моргачка, — ответил я коротко.
Повинуясь замыслу шефа (он хотел найти в Итаке ад), энергичное лицо президента “СГ”, нежное лицо Нойс и мерзкая маска рыдающего моргача начали медленно совмещаться, образуя какое‑то новое уродливое, отталкивающее лицо, крест–накрест перечеркнутое титром:
БЛАГОДАРИТЕ “СГ”!
ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО!
“И не бросайте окурки в унитаз, — вспомнил я. — Смывая их, вы теряете от пяти до восьми галлонов чистой, всем необходимой воды”.
Вспыхнул свет.
— Эл. — Шеф доверительно улыбался. — Специально для комбината “СГ” и специально для военного министерства мы смонтируем ленты по–разному. Ты добыл значительный материал. Уверен, что заказ попадет в руки наших друзей. Ты здорово поработал. Восемь процентов наши.
1975
Молчание, Эл, молчание.
Нарушай молчание, ты подвергаешь опасности не просто самого себя, ты подвергаешь большой опасности наше общее дело.
Альберт Великий (“Таинство Великого деяния”) в устном пересказе доктора Хэссопа.
Чем дальше на запад, тем гласные мягче и продолжительнее.
Пе–е-ендлтон… Ло–о-онгвью… Бо–о-отхул… Тяни от всей души, никто не посмотрит на тебя, как на идиота, потому что бобровый штат всегда осенен мягким величием Каскадных гор.
Но железнодорожная станция Спрингз-6 пришлась мне не по душе.
Полупустой вокзальчик, поезда, стремительно пролетающие мимо, старомодный салун…
Разумеется, я не ждал толчеи, царящей на перронах Пенсильвания–стейшн или на бурной линии Бруклин — Манхэттен, все же Спрингз-6 могла бы выглядеть живее. Я выспался в крошечном пансионате (конечно, на Бикон–стрит, по–другому аборигены назвать главную улицу не могли), прошелся по лавкам и магазинам (по всем параметрам они уступают филиалам “Мейси”, “Стерн” или “Гимбелс”, но попробуйте сказать это биверам — бобрам, как называют жителей штата. Я даже посетил единственный музей городка, посвященный огнестрельному оружию. Там были неплохие экземпляры кольтов и винчестеров, но все в безнадежном состоянии — зрелище тоскливое, невыносимое.
Короче, скучища.
И главное, никто ко мне не подошел.
Ни на узкой улочке перед музеем, ни перед витриной “Стерна”, ни в пансионате. А если я вдруг ловил на себе чей‑то взгляд, это оказывался ленивый зевака.
Вечером я отправился на вокзал.
На этом, собственно, моя работа кончалась. Войду в вагон, проследую три перегона и выйду на Спрингз‑5, где на стоянке автовокзала найду машину, оставленную Джеком Беррименом Вот и все, потому что человек, который должен был подойти ко мне в городке Спрингз-6, так и не подошел.
Несколько фермеров (из тех, что тянут гласные особенно долго) с плетеными корзинами да компания малайцев (так я почему‑то решил) — вот все пассажиры. Малайцы были смуглые, с плоскими лицами оливкового оттенка, с очень темными, поблескивающими, как бы влажными, глазами, с выпяченными толстыми губами — кем им еще быть, как не малайцами? И волосы — прямые, чуть не до плеч. Они быстро, по–птичьи, болтали, я разобрал несколько слов — кабут или кабус, а еще — урат; голоса звучали низко, чуть в нос, но по–птичьи высоко взлетали. Китайцев и японцев я бы сразу узнал, это, наверное, были малайцы. Что их занесло на бедную станцию? Туристы? Но гида с ними не было… Студенты? Что им тут делать?..
Впрочем, мне было все равно, как они сюда попали. Малайзия далеко. Острова, вулканы, фикусы… Какое мне до них дело?
Со стороны гор потянуло пронизывающим ветерком.
Я подошел к кассе и постучал по толстому стеклу. Кассир, не старый, но уже прилично изжеванный жизнью (явно из неудачников), опустил на нос очки и вопросительно улыбнулся. До меня никак не могло дойти, почему он сидит в этой дыре, почему не покинет застекленную конуру? Взял бы пару “кольтов” в музее огнестрельного оружия и устроил приличную бойню на фоне подожженной бензоколонки. Наверное, решил я, он из коренных биверов. И лицо бобровое, в усиках. Уверен, что будь у него хвост, он тоже оказался бы плоский.