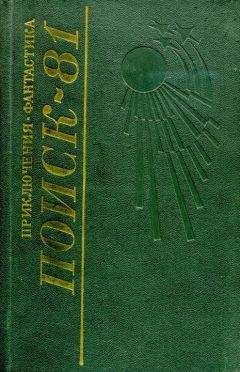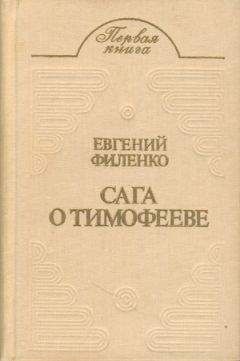— Но нельзя же там сидеть с утра и до вечера! — усомнился Костя.
— Зачем? Утром Калугин уходит и возвращается часам к семи. Достаточно прийти около этого времени. А для наблюдения за входом с улицы мы сняли комнату в доме напротив.
— Но Якубов с Калугиным были у Миллера в шесть часов!
— Хорошо, отодвинем этот срок еще на час. — Теперь Андрей обращался только к Лере: — Буду ждать вас сегодня в начале восьмого. Сам я приду раньше и выберу столик.
Лера задумалась:
— У меня, пожалуй, платья подходящего нет…
— А то зеленое, с рюшами? — напомнил Костя.
Хотя вся эта затея ему и не нравилась, он считал своим долгом быть беспристрастным.
— Понимаешь, — сказала Лера, когда он вышел проводить ее до ворот, — ты, главное, не нервничай. Мне кажется, нужно притвориться перед кем-то — перед судьбой, что ли, или перед богом, будто мои экспонаты тебя уже не занимают. Другое начать делать. И тогда что-нибудь непременно обнаружится. Само собой. Как у тебя с этой монетой… Я путаюсь, да?
— Все понятно. Но ты все-таки дай мне ключ от музея. Завтра подожду там Федорова.
Лера порылась в сумочке, достала ключ:
— Открывать вправо, на два оборота.
Костя хотел взять ключ, но она не сразу его отпустила, и их пальцы на мгновение соприкоснулись. Ключ был теплый, а пальцы у Леры совсем холодные — словно после умывания.
14«Если бы мы были воспитаны в совершенно тех же условиях, как улейные пчелы, то нет ни малейшего сомнения, что наши незамужние женщины, подобно пчелам-работницам, считали бы священным долгом убивать своих братьев, матери стремились бы убивать своих плодовитых дочерей и никто не думал бы протестовать против этого. Тем не менее пчела (или всякое другое общежительное животное) имела бы в приведенном случае понятие о добре и зле, или совесть…»
Одолев эту цитату из Дарвина, написанную, как и весь дневник Свечникова, стремительным и неразборчивым левонаклонным почерком, Рысин отхлебнул из ковшика глоток огуречного рассола.
Подумал: «Слава богу, что мы не пчелы!»
После вчерашних именин голова у него болела невыносимо.
Первым делом Рысин заглянул в самый конец дневника, надеясь отыскать там хоть что-нибудь, проливающее свет на обстоятельства смерти его автора. Однако последняя запись, помеченная 12-м июня, была такой:
«Желоховцев как подлинный ученый любит все живое, острое, пряное, все, что питает и стремит силу ума. Афоризм, сразу западающий в память, меткое сравнение, соленое, но точное словцо — все находит у него отзвук. Вчера Якубов принес с вокзальной площади пирожков. Григорий Анемподистович надкусил один и сморщился: «А пирожки-то…» Закончил фразу крепким словцом и счастливо засмеялся — точнее не скажешь!»
Восторг Свечникова по такому поводу Рысину был непонятен. Ну, выругался профессор… Велика важность.
Он проглядел еще несколько записей в конце дневника, посвященных теории Желоховцева о типизации вогульских могильников, а потом начал читать все подряд, с первой страницы. Чтение было не из легких. Цитаты перемежались собственными размышлениями Свечникова на отвлеченные либо исторические темы и письмами его к какой-то Наташе в Кунгур. Впрочем, письма эти, аккуратно переписанные в дневник, также изобиловали цитатами из мыслителей всех времен и народов. Высказывание Дарвина о пчелах, например, должно было объяснить Наташе понятие относительности человеческой морали на доступном ей материале — она, как понял Рысин, служила секретарем в кунгурском обществе пчеловодства.
Свои житейские впечатления Свечников записывал редко. Первой записью такого рода после прихода белых была следующая:
«Сегодня в университете, как и в прочих казенных зданиях города, проходили водосвятные молебны. Освящали стены, оскверненные пребыванием в них большевиков. Это какой-то шаманизм, недостойный людей двадцатого века. Священник кропил аудитории с таким величественным видом, как будто от этой процедуры зависит судьба цивилизации. Уловив минуту, я взглянул на Желоховцева и обрадовался: губы его кривила ироническая усмешка. Не вполне, правда, открытая, но достаточно очевидная для тех, кто дал бы себе труд в ней разобраться…»
Рядом выписаны были строчки Блока о «пузатом иерее», а затем, уж вовсе по непонятному сцеплению мысли, стихи какого-то солдата, приходившего в университет после Февральской революции:
«Отняли власть мошенники, простые мужики, отняли власть у Коленьки, и да хоть в пастухи».
Судя по дневнику, Свечников вел жизнь замкнутую — хозяйка была права. Его интересы ограничивались книгами и университетом, где кроме Желоховцева у него имелся еще один близкий человек — Михаил Якубов, тоже студент и вдобавок земляк. Он, помимо всего прочего, приходился двоюродным братом кунгурской Наташе. Правда, этой зимой отношения между Свечниковым и Якубовым были хотя и тесными, но далекими от полного понимания.
«Поздно вечером, — читал Рысин, — я возвращался домой. На углу Торговой и Сибирской мне повстречались двое солдат с офицером. Они конвоировали человека, который, несмотря на мороз, был без шапки, в распахнутой шинели, открывавшей окровавленную рубаху. Когда я поравнялся с ними, этот человек внезапно бросился ко мне, толкнул меня на солдат, а сам побежал к торговым рядам. Офицер отшвырнул меня в сторону, я упал. Но тому человеку не удалось скрыться. Он не успел пробежать и десяти шагов, как был скошен пулей. Я не стал подходить к нему, поднялся и пошел домой. Всю дорогу я чувствовал на сгибе руки его пальцы. Кажется, даже сейчас чувствую».
Рысин перевернул страницу:
«Я рассказал об этом случае Якубову. Показал, закатав рукав, красные пятна, выступившие у меня на коже как раз в том месте, где мою руку стиснули пальцы вчерашнего беглеца. Но он лишь посмеялся над этими «стигматами», сказав, что я чувствителен, как Вертер, и что ночами пленных большевиков часто водят на Каму — дело обычное. Он так и выразился — «на Каму», — не поясняя, зачем их туда водят. Это выражение всем понятно, оно уже привилось, и, что самое страшное, у него появляются всякие переносные значения, чуть ли не шуточные».
Еще запись:
«Я убежден, что в нашей науке истинное знание дается через судьбу. Якубов, к сожалению, этого не понимает».
Но в начале июня отношения между земляками внезапно потеплели:
«Говорил с Якубовым о возможной эвакуации университета в случае падения города. Он решительно против того, чтобы уезжать. Услышав это, я едва не бросился обнимать его. Как все-таки много значили для нас обоих истекшие месяцы! Мы многое поняли, увидев вещи вблизи, в натуральную величину. История глубже любых аналогий, и жаль, что это понимание пришло к нам с Михаилом порознь. Но одно смущает меня: Желоховцев твердо намерен ехать. Он слишком прочно связан с университетом, в этом его беда. Боюсь, наши с Якубовым уговоры на него не подействуют. Порешили для убедительности говорить с ним по очереди, а не вместе…»