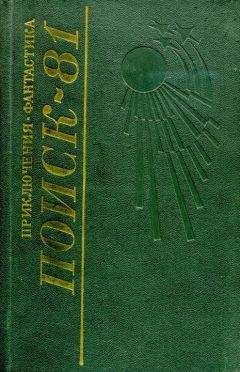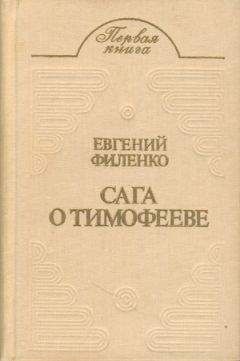«Говорил с Якубовым о возможной эвакуации университета в случае падения города. Он решительно против того, чтобы уезжать. Услышав это, я едва не бросился обнимать его. Как все-таки много значили для нас обоих истекшие месяцы! Мы многое поняли, увидев вещи вблизи, в натуральную величину. История глубже любых аналогий, и жаль, что это понимание пришло к нам с Михаилом порознь. Но одно смущает меня: Желоховцев твердо намерен ехать. Он слишком прочно связан с университетом, в этом его беда. Боюсь, наши с Якубовым уговоры на него не подействуют. Порешили для убедительности говорить с ним по очереди, а не вместе…»
Рысин читал дневник спокойно, и только предпоследняя запись вернула его к вчерашним размышлениям:
«Утром беседовал с раненым прапорщиком из университетского лазарета. Рассказывая, о нелепой смерти своего товарища под Глазовом, он припомнил арабскую пословицу: убивает не пуля, убивает предназначение. Почему-то эта расхожая восточная мудрость произвела на меня сильное впечатление. По-видимому, в наше время и для таких людей, как я, подобные изречения приобретают особый смысл».
Рысин оделся, взял дневник и вышел во двор, откуда доносилось куриное квохтанье — жена кормила несушек.
— Маша, я вчера на именинах ничего лишнего не болтал?
— Что? — поразилась жена. — Да ты за целый вечер рта не раскрыл!
Рысин задумался — отчего-то ему казалось, что он вел на именинах долгие и чрезвычайно существенные разговоры.
15В университетском вестибюле было пустынно, тихо. У лестницы висел плакат: большевик в красных шароварах, похожий на Али-Бабу, замахнулся дубиной на кремлевские соборы, но руку его перехватил молодцеватый казак с полным набором Георгиев на гимнастерке. У верхнего края плаката извивалась сделанная вязью надпись: «За Русь Святую!» Чуть пониже — другая: «Все 12 казачьих войск приветствуют Верховного Правителя России адмирала Колчака!» Под плакатом сидел швейцар и курил трубку. На улице было солнечно, но в полутемном вестибюле стоял нежилой холод, как в подвале. Дым от трубки расползался плоскими клубами, становясь сизым в бивших из окон косых потоках уличного света.
Рысин сразу поднялся в кабинет Желоховцева. Войдя, отметил, что разбитое стекло так и не вставили. Хотя все вещи оставались на прежних местах и лишь стопка книг громоздилась на полу, он уловил слабый дух запустения, уже веющий над кабинетом.
— Я должен перед вами извиниться, — сказал Желоховцев.
— Пустяки! В тот момент вам было не до меня. — Рысин достал синюю тетрадь. — Это дневник Свечникова. Сделайте одолжение, просмотрите его прямо сейчас, при мне…
Желоховцев тоже начал читать дневник с конца, а Рысин, расхаживая по кабинету, вспомнил предпоследнюю запись, и странное для двадцатилетнего человека предчувствие смерти обернулось неожиданным выводом: не мог Свечников сам придумать трюк со стеклом. Кто-то посоветовал ему разбить стекло через форточку. Человек с предчувствием смерти, пусть даже случайным, неявным, дремлющим в глубине сознания, не способен к подобным уловкам. Он живет по особым часам, тем, по которым истинно великие люди живут всю жизнь. Рысин отдавал себе отчет, что к этому выводу его привел весь дневник, а не только запись о разговоре с раненым прапорщиком. Но ему хотелось думать так, как подумалось вначале. И он даже знал, почему. В этом скачке мысли была особая логика — логика не обстоятельств, а движений души. Души Сережи Свечникова, витающей в сумраке университетского подвала, и его, Рысина, души, крепко сидящей в худом двадцатидевятилетнем теле.
А уже потом пошла логика обстоятельств.
По ней выходило два варианта. Первый: при похищении коллекции Свечников был не один. Второй: он вообще был не один, а тогда — один.
— Наверное, — начал Рысин, заметив, что Желоховцев закрыл тетрадь, — то, что я сейчас скажу, покажется вам абсурдным. Но я все-таки скажу… Ваша коллекция похищена автором этого дневника, Григорий Анемподистович.
Он впервые назвал Желоховцева по имени-отчеству.
— Разве вы ее нашли? — осведомился тот.
— Пока нет.
— В таком случае почему вы позволяете себе такие выводы?
Рысин подробно изложил свои соображения.
Желоховцев слушал молча, не прерывая и не требуя дополнительных разъяснений. Выражение отрешенной недоверчивости постепенно исчезало с его лица. Когда Рысин кончил, он еще помолчал некоторое время, потирая ладонью клеенчатую обложку тетради, а потом тихо, на одной ноте выговаривая слова, произнес:
— Пожалуй, я догадываюсь, зачем он это сделал…
— Именно потому я к вам и пришел, — сказал Рысин.
— Сережа очень любил меня, вы могли заметить это по дневнику. В последнее время он несколько раз заговаривал со мной о будущем. Спрашивал, что я собираюсь делать, если город возьмут красные, и наивно убеждал меня остаться…
— Якубов тоже беседовал с вами на эту тему?
— Да, тоже. Хотя такая стремительная перемена в его взглядах показалась мне странноватой. Он всегда был убежденным сторонником колчаковской диктатуры. Я же стоял за Комуч.
— А Свечников? — спросил Рысин.
— У него не было четкой политической ориентации. Он был очень впечатлителен, и некоторые крайние проявления режима легко могли показаться ему характерными чертами нынешней власти как таковой. Это тоже заметно по дневнику… Так вот, все мои ученики знали, как много значит для меня серебряная коллекция. Знал, разумеется, и Сережа. Мои ближайшие научные планы были связаны почти исключительно с ней… Говорят, поэты созревают быстро, а художники медленно. В науке важно найти свою тему. Открытия случайны. Только тема делает из блестящего эрудита подлинного ученого. Есть темы для магистерской диссертации, это одно. Есть кусок жизни, в котором ты узнаешь себя и делаешься своим человеком, — это другое. Я долго искал свою тему, и Сережа с его любовью ко мне понимал это лучше многих. А любовь всегда эгоистична. Я думаю, он украл коллекцию для того, чтобы таким путем повлиять на меня, заставить отказаться от эвакуации… Своего рода шантаж. Слово это звучит грубо, когда речь заходит о столь тонких материях, но в принципе оно верно отражает ситуацию.
— После исчезновения коллекции вы видели Свечникова?
— Нет.
— Если ваша догадка верна, — вслух начал рассуждать Рысин, — он должен был сообщить вам, что коллекция цела. В противном случае его действия теряют всякий смысл. Однако никаких писем вы не получали.
— Письмо есть, — сказал Желоховцев. — Я уверен. Но что-то помешало Сереже отправить его!