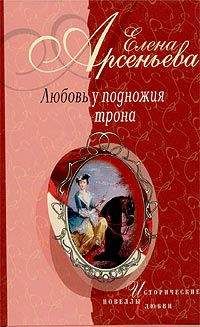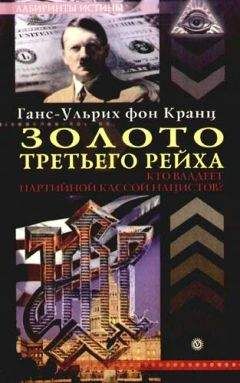16. И снилось мне - в угрюмом зале, где две-три лампочки и мгла, мои знакомые стояли - толпа немая замерла. Кто превратил их в белый мрамор? Какой неведомый мороз? Вот это кто? Ах, это - мама. Я обнял и ослеп от слез!
Такая встреча хуже ада... Но вдруг я понял - здесь не смерть. Чтобы мама ожила, мне надо ее теплом своим согреть.
Я обнял крепче - засияли глаза, и поднялась рука... Но закричали в страшном зале другие: - Мы стоим века.
Ты бросил нас!.. - Мои родные, друзья забытые давно, стояли страшные, седые - и ждали друга все равно.
И я метался, я старался их разбудить скорей, помочь... Один - поэт - уж улыбался... но сам я замерзал в ту ночь.
И бегал вновь, не успевая, их обогреть хотя б едва вот засветилась плоть живая любимой... но опять мертва.
Но мама! Я вернусь к старушке... Но - милая вдали зовет... Но - друг!.. По залу, словно пушки, звучат проклятья! И вот-вот
прервется сон... но я же должен успеть их оживить... но нет во мне тепла. О боже, боже!.. Они прождали столько лет.
Стою в бессилье. Надо честно сказать - никчемен я и пуст. Сон удержать пытаюсь тщетно. И верно, одинок проснусь. 17. Нам отвели для жизни чердак трехэтажного коттеджа некоего богача Стукалова по кличке Стук, застреленного год назад из вальтера в туалете оперного театра, после чего, говорят, его жена-красавица осталась нищей, ибо все деньги Стука были в деле, а значит - в темных чужих руках. Но дом за городом остался, братва не стала его отнимать у вдовы. Достраивать хоромы ей не под силу, так и стоит дворец с пустыми окнами на опушке красного бора, над логом, в котором образовано искусственное озерцо.
Из-за того, что в каменном здании холодно ( и зима на носу), мне новые друзья выдали взятую непонятно где ржавую, измятую железную печурку с коленчатой трубой. Дровишек я сам нарубил в лесу, насобирал хвороста и сосновых шишек. Окошечко со стороны леса мы с Наташей завесили толем, а выходящее на свет, юг, к озеру - я, как умел, застеклил. Но втайне я не готовился к долгому здесь житию, к зимовке. Страх тряс мои ноги. Надеялся, что Новому году смотаемся куда-нибудь... утихнет облава, смолкнут разговоры - и мы рванем прочь. Есть хороший поезд Иркутск - Ташкент... кто нас будет искать в Таджикистане? А если уже нет такого поезда - выберем другой. Я слышал, можно безо всякой визы проехать в Казахстан, в Белоруссию... Как хорошо, что я тогда обмотал газетами футляр со скрипкой. Но и в таком виде он вызвал интерес. Мои новые дружки спросили: - Где-то мясцо стибрил? Я, утвердительно кивнув, пробурчал что-то невразумительное в ответ. Но чтобы они остались именно при этом мнении, сходил в соседний шахтерский поселок, купил там рюкзак и ляжку свиньи, которую и вынес вечером к общему костру. Надо сказать, живущие тут бродяги к нам с Наташей поначалу отнеслись по доброму. Кроме печки, приволокли матрас, драную медвежью шкуру, которую мы под матрас и постелили. А пуховое (австрийское) одеяло и простыни мы сами купили.
Конечно, не обошлось без игривых намеков: - Поделился бы... у нас тут кроме волчиц в лесу и коз в деревне труба.
Мы с Наташей в ответ на это весело хохотали, но, оставшись одни, бросались друг другу в объятия, словно нас вот-вот кто-то разлучит, и засыпали - если засыпали - на рассвете в изнеможении... Ее холодные белые грудки, горячий плоский живот... зябкие коленки и жаркая шея... замершие глаза и задыхающийся рот - я целую то верхнюю губу, то нижнюю... Впрочем, через мгновение личико ее может стать совершенно спокойным, скучающим, как бы старушечьим, а левая ножка начинает по привычке дергать левой ступней вверх-вниз, будто нажимает и отпускает неведомую педаль... Может быть, мама в свое время учила ее, маленькую, работать на швейной машине с ножным приводом. Утром мы осторожно спускались по недостроенным кирпичным лестницам и шатким деревянным трапам вниз умыться. Валявшиеся повсюду бруски и доски с гвоздями я перевернул ржавыми остриями вниз. Но не это вызывало в нас опаску и замедляло ежесекундно шаги - пугал крик сороки или гвалт кедровок в стороне, пугал каждый новый человек, вдруг появившийся на мотоцикле или на машине в городке коттеджей.
Всего тут - охранников и строителей - жило человек двенадцать. К счастью, они, видимо, не имели никакого отношения к людям далекого отсюда Мамина, иначе бы уже связали меня и выдали (за хорошие деньги, конечно) его эмиссарам или просто убили бы. Хакас Алеша, похожий на Христа, добрый парень. Бомж Василий, он же Воробей ( вечно в опилках) - весельчак. Но вот бугай Витя, плотник с вечным топориком, засунутым за кушак на животе... у него на красном лице дымчатые, как крыжовник, редко мигающие глаза. Все время так пристально смотрит... Но нет же, нет, если бы он что-то знал или подозревал, это проявилось бы - мы тут жили третью неделю... Порою среди ночи, из-за того, что напряжение не отпускает, я, лежа возле моей уснувшей красавицы, прикидывал и так, и этак, что стану делать, если услышу вдруг приближающиеся снизу шаги. Вот идут, идут вверх по лестницам. Что предприму? Оружия у меня нет, кроме перочинного ножа. Остается одно - бежать. Как? Лестница упирается снизу в люк с дощатой крышкой, которую я днем откидываю в сторону, но на ночь ставлю на место и наваливаю сверху кирпичи, надвигаю длинный брус, забытый здесь теми, кто возводил крышу. Но сам понимаю - сильному человеку эти препоны легче птичьего пера. У нашего изголовья - застекленное окошко. Закутать Наташу в одеяло и - спиной вперед, как в американских боевиках? Но ведь третий этаж... Если я разобьюсь, а она останется жива, сможет ли, напуганная, встать и убежать? Надо подготовить веревку. В ближайший выход в свет, в шахтерский поселок, ничего не объясняя Наташе, купил моток крепчайшей нейлоновой бечевы. Но ведь если придут нас "брать", то именно со стороны входа, со стороны озера будут стоять их охранники. Прыгать надо в лес... и в лес уходить. Ночью не найдут. А если явятся днем? Зачем им беспокоиться ночью? Днем приедут... и куда мы денемся? Нет, зря поселились на чердаке. Надо бы на первом этаже. Но там неуютно, зябко среди каменных стен... И я сказал хакасу Алешке: - У моей Натальи голова кружится наверху... кажется, беременна... - Это на всякий случай, чтобы не приставали... - Да и мне иной раз пьяному с верхотуры идти пописать - можно голову сломать в темноте... Нет у нас лишнего какого-нибудь вагончика? А вагончики имелись, я видел, типовые старые вагончики для строителей. Один стоял у самого оврага, над ручьем, выше озера. Деревянный, кривой, неопределенного цвета, он завалился на бок - видно, когда тащили волоком, задели то ли о камень, то ли о крепкое дерево. И один из полозьев изогнулся и вроде уха отошел в сторону. Вот в этот вагончик мы с Наташей и перетащили наши манатки. Он далеко от всех - как хорошо! Но недолго я радовался новоселью. Беда в том, что единственное здесь окошечко забрано массивной решеткой - не влезть чужому человеку, но и не вылезти самому. Я попросил у парней гвоздодер (дали размером с лом) и несколько ночей, пытаясь работать потише, отламывал решетку... Вытянув корешки из дерева, конструкцию оставил внешне как бы нетронутой, но лишь на первый взгляд - потяни посильнее, и она отпадет. А сама рама со стеклом и вовсе едва держалась в оконной коробке - на ватных и бумажных грязных затычках. Теперь мы спали, запирая обитую жестью дверь на два крюка. У нас был топчан, мы почти не укрывались - печка успевала к ночи раскалить наш новый домик как баню... Если начнут ломиться в дверь, мы быстро вывалимся в окно. А чтобы со стороны входа не было видно, как вылезают через окно, я нагромоздил слева от двери на углу гору поддонов из-под кирпича высотой метра два. Да еще сверху перекинул рваные полихлорвиниловые пленки из-под тех же кирпичных блоков - правда, они все время шелестят среди ночи, пугают, но зато от двери точно не видно окна... Возможность того, что нас поймают, сказать откровенно, больше угнетала меня. Наташа мгновенно привыкла к новому быту, пол подметала полынным веником, однажды и букет осенний рыже-красный набрала и в дрянную расколотую глиняную вазу воткнула. При этом многозначительно заметила: - Называется икебана. - Да иди ты! - удивился я с сарказмом. - Кто сказал? Она смолчала, но смущенно отвела свой бессовестно-яркий синий взгляд, который иногда становился именно бессовестно-ярким. Конечно же, это Мамин, бандит Мамин учил ее изысканным словам в своем роскошном логове... А у нас здесь жизнь была более чем спартанская. Мясо пекли на костре, суп варили в ведре, воду для чай кипятили в котелке вроде каски с проволокой. Вскоре купили в поселке и жестяной зеленый чайник, но он оказался худым - тек. Умывались, поливая друг другу из ковшика. Дощатая кривая уборная стояла в двадцати метрах ( общая для всех), она сверкала щелями, и если Наташа, выросшая в бараке, заходя туда, не особенно робела, то я ужасно стеснялся. Под доброжелательный смех бомжей заколотил щели досками. Но из всех неприятностей самой неприятной оказались мыши. Они шелестели в углах, ночью иногда бегали по нашей постели. Однажды утром Наташа завизжала: - Андрей!.. Это не мыши!... Да, серые, длинные, это были крысы. В нашем городке их развелось множество, потому что здешние обитатели ( да и мы с Наташей) не особенно утруждали себя уборкой остатков еды... Несколько дней я затыкал дыры в вагончике пучками гвоздей, заколачивал их и так, и этак, переплетая крест-на-крест. И еще насыпал повсюду купленный в шахтерском поселке крысид. Так проходила наша жизнь. Миновало два месяца. На носу был морозный декабрь. Но мы до сих пор не решили, куда побежим дальше. Как могли, экономили деньги, старались меньше тратить. Я помогал крыть крыши, мне платили. Я получал чуть больше корейцев, которые недавно появились на стройке и делали в окрестности самую черную работу. Но как быть, если у Наташи нет ни шубы, ни пальто, а только синий плащ (как из стихов Блока). У меня-то хоть теплая куртка. Пришлось съездить на проходящих рейсовых автобусах в Кемерово, прихватив с собой доллары. Наташа не удивилась, увидев у меня "зеленые" деньги, - видно, была избалована деньгами, живя у Мамина, да и по возрасту еще оставалась легкомысленной девчонкой. Если есть, значит, где-то заработал. Без них мы бы, конечно, не оделись, потому что Наташа как увидела серебристую шубу на базаре, так и встала на месте: - Эту!.. Вернувшись в поселок, мы не смогли пройти незамеченными мимо соседей в свою конуру. "Засветили", "засветили" мы денежки. Обмывая вечером у костра обнову, я сказал как между прочим хакасу Леше, что продал золотое кольцо, а Наташа - перстень, - не голой же ей ходить. Остатки долларов ( вернее сказать, основную массу - мы из них истратили-то лишь недостающие для покупки три сотенки) я завернул в старую газету и сунул под матрас ближе к изголовью. Ночью, целуясь, мечтали, как заживем когданибудь где-нибудь на берегу моря... Скрипка лежала в чемодане, а футляр - проклятый футляр - обмотав газетами, я подвесил под потолок над дверью, так, что сразу и не видно. Вроде бы как отверстие наверху прикрыл. И как-то так вышло - постепенно мы привыкли и успокоились. И меня уже не удивила просьба Наташи однажды утром: - А трюмо не купишь? - Зачем? - Он меня учил, чтобы я берегла лицо... - сказала шестнадцатилетняя женщина и покраснела. - Ну, вообще... все так. Из ближайшего поселкового села я принес зеркало размером метр на полметра, повесил в вагончике справа от она. И Наташа тут же села перед ним мазаться всякими кремами. "Для чего?!" - хотел я спросить, но к чему спрашивать? Женщины есть женщины. Да и видел же я - на вольном воздухе личико Наташи посмуглело и слегка огрубело, скулы вылезли... Поняв, что и приобретением зеркала она как бы снова напомнила мне о Мамине, Наташа, накрасив губки, потерлась ухом, как кошка, о мою грудь. - А ты меня... ты учи чему-нибудь другому. Учи музыке... играй и рассказывай... - вспомнила, что я музыкант. Лукавила, конечно. Нет у нее музыкального слуха. Или не развит совершенно... Да и начну играть - услышат. Делать этого нельзя. Здесь не знают, и лучше, если не узнают, что я скрипач.