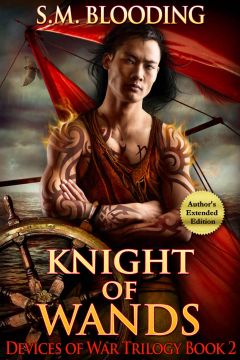– Это и должно было случиться именно с нами. Это возмездие.
– Молчи. Молчи. Ничего не говори… Это неправда!
– Все будет хорошо. Я вооружен. Умник оставил Кортеса… А еще он подарил мне рацию. Может быть, действительно мы заодно?
Батон помолчал, обнял на прощание Марию:
– Держи бортовую связь включенной круглые сутки. Пока.
Он спокойно пошел вдоль берега.
– Ром!
– Что?
– А ты хоть раз ездил на лошади?
– Конечно. Возвращайся к самолету.
Легкие сумерки тем временем сгустились. Только над океаном было светло, словно он излучал рассвет.
Отыскав удобное место, Роман переправился сначала через один рукав реки, затем через второй, третий… Он плыл через устья, он шел вдоль берега всю короткую ночь и вышел к лагерю конкистадоров в предутренней дымке восхода.
Это было эффектное зрелище – лагерь, окруженный по всем правилам жестокой войны частоколом. Огни дозорных костров. Одинокие крики часовых в утренней тишине. Виселица, сколоченная наспех у ворот, на ней уже болтается первая жертва… Картину довершала цепь кораблей, посаженных по приказу Кортеса на мель,– дороги к отступлению нет!
Роман чувствовал себя зрителем внутри опасной живой картины, бродячей буквой на страницах школьного учебника по истории средних веков… В центре лагеря, высоко над частоколом, высился исполинский крест из двух грубо обтесанных стволов. В свежее дерево вбита железная плошка с восковой свечой, которая горит малым пронзительным огоньком.
Вера-Крус – значит истинный крест.
Часовые принялись тушить костры, над океаном всходило солнце. Занимавшийся день делал бессмысленной всякую попытку незаметно подкрасться к лагерю, и только на следующую ночь, которая, как назло, выдалась лунной, Батону все ж таки удалось прокрасться к стене из свежих кольев. На виселице у ворот уже качалось трое повешенных. Прошло, наверное, больше часа, прежде чем ему удалось при смене караула перемахнуть через тын и отыскать конюшню. Кони почуяли его приближение и тревожно заржали.
Он замер.
В двух шагах прошел часовой с арбалетом на плече. Как это было нелепо – стоять затаившись в тени, с пистолетом в руках, в спортивных полукедах образца XX века, посреди испанских конкистадоров в марте 1519 года.
Черная кобыла косила пугливым глазом и мелко-мелко подрагивала кожей.
– Тихо… тихо…– Но ее могла успокоить только испанская речь, а не это славянское шипенье.
Кони стояли оседланными, готовые в любую минуту мчаться по тревоге в лунные ночные просторы.
А вот и то, что он искал,– белоснежный конь Кортеса. Он стоял в отдельном загоне. Батон бесшумно перебежал открытое пространство.
Но на этом абсолютное везение кончилось.
Белый жеребец испуганно шарахнулся от протянутой руки и шумно всхрапнул. Тревожный храп заставил часового оглянуться, и, увидев человека, он сдернул с плеча арбалет. Но Батону удалось со второй попытки вскочить в седло и, со страшной силой натянув поводья, подчинить норовистую лошадь. Почувствовав силу, лошадь разом успокоилась. Только тогда арбалетчик пустил наугад стрелу. Роман ответил слепым выстрелом из револьвера, он не хотел убивать.
Ночной выстрел разбудил сотни спящих вповалку солдат. В лагере вспыхнула паника. В толчее накренился плохо вкопанный крест, и это еще больше усилило хаос и неразбериху.
Самым главным препятствием оставались запертые ворота. Батон уже думал бросить коня, но тот стремительно понес его к выходу. Горячий жеребец словно и не нуждался во всаднике. Он скакал с такой царственной мощью и натиском, что можно было принять его седока за самого Кортеса. Именно так и решила охрана, которая сначала ощетинилась мечами и копьями, а затем растерялась, не зная, что предпринять. Только начальник караула догадался выхватить из костра головню, чтобы разглядеть всадника.
– Ll? vala al tel? fono!* (*Проведи к телефону!) – заорал Батон единственную фразу, которую знал по-испански.
Еще один револьверный выстрел.
Подъехав вплотную к воротам, Роман соскочил с коня, свободной рукой, не выпуская удил, вытолкнул гладкий запорный брус из кожаных петель. Путь был свободен, но тут пущенная стрела распорола ногу. Наклонившись, он выдернул острие из икры и пришпорил коня.
При этом его не оставляло странное чувство, что все это он уже переживал: и эту скачку в ночном мраке вдоль океана, и крики часовых, и даже острую боль в ноге, знакомую боль от попавшей стрелы.
Из лагеря донеслись звуки рожка, долетела отрывистая команда. Батон встрепенулся – погоня?! Но страх оказался напрасным. Прошло несколько минут, но ворота так и остались запертыми. Достав рацию, он шепнул в микрофон:
– Мария…
– Да,– ответила ночь ее голосом, и он вздрогнул.
– Ты хорошо меня слышишь?
– Да. Так, как будто ты рядом. Ты запыхался? Что с тобой?
– Все в порядке. Теперь нас двое.
– Ты увел лошадь.– Она счастливо засмеялась, и по лунному океану побежала трепетная дорожка.
– Как видишь, во мне оказалась капля цыганской крови.
– Крови? – спросила луна.– Ты ранен?
– Нет-нет. Все в порядке.
– Где ты?
– На вершине горы, которую назову в твою честь.
– Ты все смеешься?
По океану пробежал вздох ветра.
– Я тебя разбудил?
– Нет. Я ждала тебя. Теперь я сплю в самолете. Поближе к твоему голосу.
– Умница. В кабине безопасней. Но мне пора.
– Постой, поговори со мной еще минутку… Эта гора красивая?
– Очень. И отсюда такой великолепный вид на океан. Его еще никто не называл Мексиканским заливом… А на луне видно твое отражение.
– Вот уж не знала, что ты у меня поэт.
– Все. Извини, я спешу.
– До свидания.
– До связи.
Шумный вздох ветра пронесся над заливом.
Спешившись, Батон дал коню отдохнуть и почувствовал слабое головокружение. Все-таки он потерял много крови. Где-то невдалеке был слышен голос бегущей воды… Странно, но звук свежего речного потока был так ясен здесь, на плоском берегу океана. Звук шел со стороны одинокой темной скалы. Батону показалось, что он услышал подозрительный шорох, но его успокоил конь, который тоже слушал шум ночного ручья в темноте и тянул шею в ту сторону. Он был весь в мыле.
Доверившись чуткому животному, Батон направился в тень скалы, которая лежала посреди лунной ночи тенистым облачком. Он не знал, что звук воды – дело рук индейцев в засаде, льющих воду из одной сушеной тыквы в другую. Струя звонко звенит и бурлит в ночной тишине. Все случилось внезапно.
Неслышно взметнулась в полумгле веревочная петля, и Батон упал навзничь, перетянутый арканом. Он даже не успел выпустить из рук поводья и тащил за собой храпевшего коня. Но вот его окружили бронзовые смуглые ноги. Что-то тяжелое обрушилось на голову, и он потерял сознание. Все, что происходило с ним дальше, он ощущал словно сквозь толщу глубокого, почти бездонного сна: мелькание сочной листвы над лицом, путы, обвившие тело, мерное покачивание на жестких носилках, душное дыхание джунглей. Пятнистая ночь, сквозь которую проступает рассвет, последний рассвет его жизни. Крики обезьян, щебет птиц, коричневые спины носильщиков впереди. Стон. Гортанные голоса. Пальмовый лист, сырой и рыхлый, который скользит по лицу, как полог смерти. Внезапное конское ржание. Ржание, переходящее в крик и вопль раненого животного. Прикосновение бронзового ножа ко лбу. Холодное, зябкое и страшное прикосновение. Ритуальный надрез и теплая струйка, бегущая вдоль переносицы. На дыхание крови слетается невесомая стайка прозрачно-зеленоватых мушек. А вот и солнце сквозь волны листвы и жадных алых побегов. Сельва нависает над ним набухшим от соков чревом. Обрывки лиан, как вечнозеленые сосцы забвения. Бутоны тропических цветов похожи на птичьи клювы, они грозят разорвать на кусочки его обнаженное тело. Солнце стреляет в глаза сонными струями молока, тягучего клейкого сока. Молоко мешается с красным. Распускается желто-зеленое облако. На нем вспухают фиолетовые рубцы, и снова тяжелый сон, баюканье жестокой силы, коричневые спины убийц, на которых бродят тени от перьев, воткнутых в волосы.