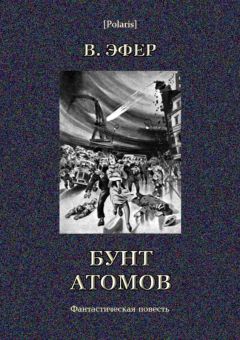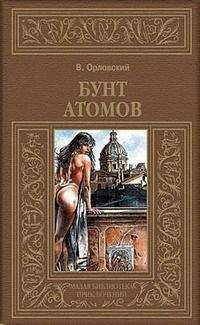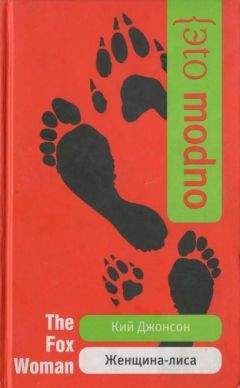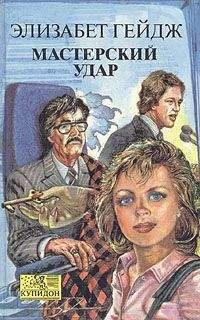Вчера утром, в состоянии самой чернейшей меланхолии, которую не могло разбавить более светлыми тонами даже свиданье со старыми друзьями, я заехал завтракать в «Карльтон», один, как обычно. Я давно не был там, и старый Джо Клифтон, Верховный Жрец божества обжорства, встретил меня поистине античным взмахом руки. В темносерой визитке, с холеной ассирийской бородой и благородным лбом, он стоял посреди малой залы ресторана, опираясь одной рукой на серебряный цоколь особого сооружения, вроде жертвенника, где под выпуклой крышкой томилось знаменитое жаркое — седло дикой козы с бобами.
На красных кожаных диванах, вдоль стен, за узкими длинными столиками сидели постоянные посетители, — из делового мира Сити и Флит-Стрит. Женщин — немного. Середина зала была пуста, не считая «Жертвенника». Джо Клифтон, вращая головой, мог видеть процесс вкусного восприятия каждого из своих клиентов. Малейшая гримаса неудовольствия не ускользала от его взора… Он провидит, несомненно, все: таинственные процессы выделения соков, тонкости работы желудка и вся психология еды, основанная на воспоминаниях о когда-то съеденном и предчувствиях будущего, на приливах крови к различным частям тела, — все это для него открытая книга.
Он подошел ко мне со строгим и вместе отеческим лицом, фамильярно, но деликатно взял меня за локоть и проговорил с восхитительно грубоватой лаской: «Ваш темперамент, сэр, сегодня требует рюмки „Мадеры“ и очень сухого „Пуи“… Можете послать меня на виселицу, но я не дам вам ни капли красного. Устрицы, немного вареного тюрбо, крылышко цыпленка и несколько стебельков спаржи… Вот что вам нужно. Судака a la Colbert сегодня нет. Собственно — есть, но не для вас». — И, подталкивая меня легонько к одному из углов залы, шепнул мне на ухо: «Сегодня, сэр, смею думать, вы останетесь довольны старым Джо и без судака a la Colbert…»
Я очутился перед столиком, за которым сидели три человека. Я только что собирался вопросительно поглядеть на Джо Клифтона, все еще державшего мой локоть, как вдруг узнал в одном из сидевших Мэттью Роллинга.
Мэттью Роллинг!.. Это тот человек, имя которого в дни последней войны не сходило с уст в течение многих месяцев!.. Это тот человек, чей танковый дивизион совершил героический поход через пустыню Ливии, чтобы зайти в тыл отступающему от Эль-Аламейна противнику!.. Мэттью Роллинг, тот, кто первым вступил на берег Нормандии в дни высадки и первым перешел через Рейн!.. Человек, с кем меня связывала крепчайшая дружба, освященная грохотом боев и испытаниями походов, в те суровые, но прекрасные дни войны, когда он был офицером Королевских технических войск, а я — военным корреспондентом. Со дня окончания войны он бесследно исчез, и теперь был именно тем человеком, который мне был нужнее всего, со своим спокойствием, уверенностью, ясностью мысли и юмором. И вот я встретил его здесь, в том самом «Карльтоне», где мы проводили столько славных часов еще до войны и во время войны, когда огни люстр были затемнены синими колпаками и снаружи так часто доносились прерывающие мирные беседы завывания сирен, возвещавших о приближении к городу армад неприятельских Юнкерсов и Гейнкелей…
Сначала мы оба остолбенели, затем обнялись и расцеловались. И хотя с тех пор прошло уже несколько лет — все это мгновенно ожило в моей памяти.
— Милостивый Боже! Дик!.. Где ты скитался все это время?
— Только что собирался спросить тебя о том же, Мэттью?
— Меня лучше спросить, где я не скитался! Был в Бирме, Натале, затем в Америке, а потом… потом в доброй старой Англии, где неоднократно делал отчаянные попытки разыскать тебя, писал тебе письма, телефонировал…
— Я тоже путешествовал, а теперь только что возвратился с Атомной конференции, — сказал я, вспомнив, что по возвращении так и не удосужился просмотреть гору накопившейся корреспонденции.
— Атомной конференции?!.. — тихо повторил Мэттью. — Вот как…
— Но что ты делал во всех этих Бирмах, Наталях и Америках…
— О, ты хочешь знать слишком много, — рассмеялся Роллинг, — удовлетворись пока тем, что я представлю тебе мисс Патрицию Стаффорд.
Здесь только я заметил, что за столом были еще девушка и мужчина. Мужчина, при моем приближении, поднялся и выжидательно стоял, теребя салфетку. Он был высокого роста, с гладко зачесанными назад волосами, носил крупные очки, имел высокий лоб и казался джентльменом, если не считать не вполне удачно подобранных тонов его галстуха и платка, выглядывающего из карманчика его темного костюма.
Мисс Патриция Стаффорд… Патриция Стаффорд была тем типом женщины, которые могут сниться… Она была величественна, как королева, и очаровательно проста… Грациозна, как белая лилия, и великолепна, как самая изысканная орхидея. У нее были головка голливудской кинозвезды и волосы цвета золота. Ее руки — были руками идеальной формы, ее темно-голубое платье с отделкой из палевых старинных кружев — было совершенством…
Мне приходят в голову самые банальные сравнения, и я не боюсь их. Патрицию Стаффорд нельзя сравнивать ни с чем и ни с кем. Такая — может быть только одна!.. Единственная!.. Несравненная!..
Я боюсь, что в течение завтрака я был очень неинтересным собеседником. Единственным утешением в этом смысле, для меня был тот факт, что мистер Джон Вилкинс не был вообще никаким собеседником… Он умел только молчать, сосредоточенно глядеть на какой-нибудь предмет и, управляясь со столовыми приборами, отставлять мизинец на полдюйма более чем следует. И все же я увидел, что мисс Патриция Стаффорд глядит на него влюбленными глазами… Может быть, мне следовало молчать еще более, чем я молчал!
Мэттью занимал разговорами всех, мисс Стаффорд оживленно болтала, я же вставлял по временам реплики, очевидно, самого плоского свойства.
По окончании завтрака мы вышли. Меня пригласили в автомобиль, ибо свой я отослал, рассчитывая после завтрака посетить мой клуб, находившийся рядом.
— Мне хочется пройтись пешком, — сказал я.
— Отлично, я пройдусь с тобой, — отозвался Мэттью. И когда автомобиль, увозивший мисс Стаффорд с ее спутником, скрылся за поворотом, мы медленно двинулись среди спешащей по своим конторам, после завтрака, толпы клерков и конторщиц. Мэттью, со свойственной ему прямотой, начал разговор.
— Кажется, Патриция произвела на тебя сильное впечатление?
— Надо быть круглым дураком, чтобы отрицать это! Но надо быть дураком не менее круглым, чтобы придавать этому значение… Мисс Стаффорд слишком мало трудится, чтобы скрыть свой восторг перед этим молчаливым оболтусом.
— Ого!.. Если ты ругаешься и злишься — то дело успело зайти далеко. Впрочем, ты неправ. Он далеко не оболтус.