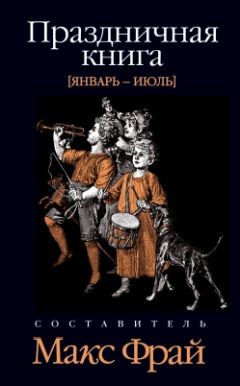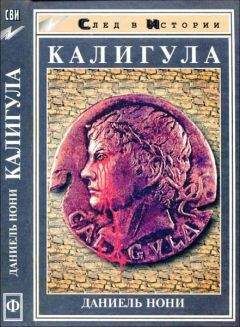— Вот так вот! — сказал старик ему вслед. — Нечего тут. И так делов наделали.
Он махнул мне рукой — иди, мол, за мною, — и вошел в подъезд. В подъезде оказалось неожиданно темно, только угадывалась большая лестница наверх да проход под нее. В конце прохода, будто вырезанный из света, маячил золотой прямоугольник черного хода. Старик шел прямо на него. На пороге он остановился и снова поманил меня.
— Вишь, что вы наделали-то?
За черным ходом открывался двор, залитый таким ярким солнцем, что я даже зажмурился. Весь центр занимал крохотный сквер: две скамейки, четыре куста сирени и две дорожки накрест. По двум углам сквера, смыкаясь ветвями, росли исполинские тополя, огромные, выше дома. Асфальт был густо усеян зелеными «сережками».
— А? Каково?
Старик снял с пояса огромную связку ключей, апостолу Петру впору, и одним из этих ключей тыкал в сторону двора.
— Замечательный двор, — сказал я. — Фонтанчик бы еще сюда.
— Куда как замечательный, — отозвался старик. Он отпихнул меня с порога, дотянулся до двери черного хода и захлопнул ее, только солнечные щели остались. Вставил ключ в замок и начал поворачивать, приговаривая: — Открывают, открывают, закрывай за ними потом. А что открывают, сами не знают.
С каждым поворотом ключа свет в щелях становился слабее, пока вовсе не исчез. Что-то щелкнуло. Запахло сырой штукатуркой и кошками.
— Да ты просто апостол Петр, — усмехнулся я.
— Куда мне! — отозвался старик польщенно. — Питер я. А за дверью этой не рай, а детство. Таким этот двор был, когда ему три года было. Потому и тополя громадные. В настоящем мире таких нету. Оставить их, — а они прогниют да рухнут, да на дом! Да и солнца я столько не напасусь, неоткуда мне его взять. Пошли, покажу, каков этот двор на самом-то деле.
Мы вышли из парадного подъезда и свернули в арку. В арке было сумрачно и пахло подгнившими овощами; в самом дворе и свет, и запах слегка усилились. У брандмауэра выстроились мусорные баки с темными лужами под ними. Двор был наглухо залит асфальтом, его перегораживал ряд машин, причем одна из них явно зимовала здесь не первый год.
Старик подошел к тому месту стены, куда открывался черный ход, быстро очертил узкий прямоугольник и перечеркнул его от косяка к косяку. В стене появилась старая, рассохшаяся дверь с железной полосой поперек. Я поднял глаза. На верхнем этаже, боком на подоконнике, сидел и курил мой человек. Он смотрел во двор, который только что выглядел совсем иначе, смотрел на машины и трещины в асфальте, и лицо его не выражало ничего, кроме усталости. Питер возился с замком на железной полосе, и я тихонько сказал: «Эй».
Солнце ударило в маленький двор, асфальт превратился в желтые плиты мостовой, крыши обросли черепицей, стены покраснели, окна вытянулись вверх, обросли синими ставнями и белыми каменными наличниками. В центре двора появился фонтанчик с питьевой водой, с маленькой мраморной чашей, в чаше плескались голуби. Узкая лестница вела из двора на галерею, опоясывающую двор на уровне второго этажа.
Меня снова окатило знакомой волной; сигарета, скуренная наполовину, упала вниз и рассыпалась искрами по асфальту. Я улыбнулся и убрал наваждение. Ко мне с довольным видом обернулся Питер.
— И все крыто-заперто! — объявил он. — Ибо сам Петр Лексеич написал Леблону на чертежах жилых домов: окна да двери делать в два раза уже, понеже у нас не французский климат!
— Я слыхал, он окно в стене вырубил, когда ему душно показалось, — заметил я, глядя на него.
— Ну, мало ли! — насупился Питер. — Это вообще в Голландии было, потом легендами обросло. А скажи-ка лучше, откуда ты взялся. С виду — малец совсем. Из тех краев, что ли? Сателлит при столице?
— Ну, вроде того, — рассмеялся я. — Уж не Рим, во всяком случае!
— Ты на праздник, что ли, прибыл?
— Я просто путешествую. А что за праздник?
Питер приосанился.
— День рождения мой завтра празднуют. Весь город во флагах да штандартах, ночью корабли придут, карнавал будет. Фонтаны пустят, которые еще не пустили.
— Фонтаны! — протянул я почти завистливо. — Здорово как. Я бы посмотрел.
— Так ведь и сейчас многие работают. У Адмиралтейства, да на Невском, да много где. Ты что ж там, не был еще?
Я отрицательно помотал головой. Питер улыбнулся и сделал широкий жест.
— Добро пожаловать, гость заморский. Пойдем, покажу тебе все.
Мы выходим к набережной и идем мимо барж, груженых лесом, мимо большого моста, за которым вдруг возникают фигуры двух сфинксов («Египетские, за великие деньги перекупили у французов!» — поясняет Питер), мимо дворцов и скверов. Питер перечисляет: Академия художеств, Румянцевский сад, дворец Меньшикова, манеж, Университет. Всюду колонны, лепнина, большие окна в частых переплетах. Даже не верится, что я только что вышел из вонючего двора, где всех украшений — мятые водосточные трубы.
— Вот были люди — цари, полководцы, европейские светила! — сетует Питер. — А нынешние что? Измельчали. Не люблю нынешних людей. То есть не то что не люблю, — не понимаю. Ведь живут среди такой роскоши, так хоть ценили бы! Нет, им все мало. И рушат, рушат, старое рушат, а новое строят такое, что уж лучше бы дыра оставалась. Живут у меня, как у Христа за пазухой, а порядку все не знают.
Я вижу, что он просто жалуется, что никакие мои соображения на тему воспитания любых тварей, населяющих тебя, — что двуногих, что в шерсти, что в перьях, — ему совсем не нужны. Я это вижу, но все равно говорю:
— Так избавься от них.
— То есть как это? Они же жители. Граждане. Всякому городу нужны граждане, без граждан никак. Да и жалко их.
— По мне, если своих граждан просто терпишь, так уж лучше без них. Они же чуют, что терпишь. И всегда ими недоволен.
Он хмурится, смотрит исподлобья.
— А ты? У тебя-то что, граждан нет? Или они сплошь ангелы?
— У меня живут только те, кто не может не жить у меня, — отвечаю я, и Питер неодобрительно крутит головой.
— Немного ж у тебя, видать, жителей.
— Немного. Жить у меня непросто.
Питер внезапно останавливается, выпрямляется во весь рост. И тотчас становится похож на шпиль Петропавловской колокольни: светлая игла, вонзенная в небо.
— Я бы хотел, чтобы у меня можно было просто жить. Просто жить и все, — говорит он с неожиданной тоской. — Но, видно, не судьба мне. Слишком близко болота, слишком близко небо. Вот все и прыгают выше своей головы, да скоро выдыхаются, потому как чем выше прыгают, тем глубже вязнут. Ожесточаются, упрямятся. А знаешь ведь, что случается с теми, кто лезет на небо из одного только упрямства?