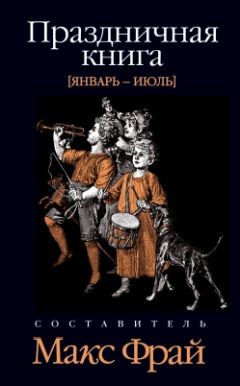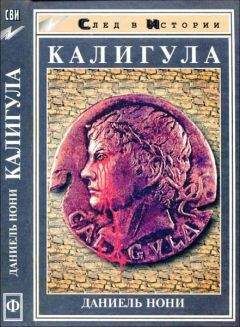— Они утрачивают язык и перестают понимать кого-либо, кроме себя, — отвечаю я.
— Именно так, — говорит он.
Небо будто давит ему на плечи, он снова сутулится, смотрит на воду. От воды несет холодом. Мосты тянутся к садам и дворцам, как цветы к теплу, тянутся и не могут дотянуться. Огромный всадник громоздится через реку над набережной, постамент его — кусок гранита, а кажется, что облако. Вот-вот сорвется с него, поскачет по воде, аки посуху, только бабки коню замочит.
— Вот ради этой красоты, — говорит Питер, — полегло здесь столько народу, что до сих пор их кости держат болота. На мощах мучеников стою, как собор какой.
Я смотрю на золотой купол большого храма, на красные клены на площади вокруг всадника, на бело-зеленый органный угол дворца за мостом и думаю, что, по-моему, дело стоило того.
Между тем мой человек сменил сандалии на кроссовки, а футболку — на свитер и джинсовую куртку, и вышел из дома. Я догадался, куда он идет. Куда-нибудь, где продаются карты иноземных городов. Я спросил у Питера, где это может быть, узнал, что примерно в ту сторону мы и идем, и послушно пошел за ним через мост. А он все рассказывал и рассказывал. Про балы до утра, про пожары, про наводнения, про веселое времечко. «Я столицей был, понимаешь ты, столицей, тебе, мальцу, и не понять, что такое быть столицей. Я молодой был, красивый, дворцы, сады, фонтаны, куда ни глянь. И мосты, и набережные». — «А потом?» — спросил я. Питер помрачнел.
— А потом пришли нигилисты эти, безбожники, установили новые порядки, да и отдали столицу Москве. У меня тогда кто не уехал, тот в блокаду погиб. Переименовывали меня дважды, бездельники. Ну да я все равно выстоял. Святой Петр-апостол мне покровитель и защита, и, как меня не зови, был я и есть Питер, сиречь камень. Камнем только и жив, не будь его, давно вода бы затопила. Знаешь, какие наводнения у меня тут бывали! Каждый раз думаю: все, конец мне настал. Но ничего, как-то обходится.
Я удивился.
— Стоишь на воде и боишься воды?
— Как же ее не бояться, если она за каждой дверью? И дети эти, несмышленыши, так и норовят все пооткрывать.
— О ком это ты?
— Да обо всех этих малолетках, что ходы открывают. Ты ж только что видел одного. Ну, от него пока вреда немного, он мечтатель. А такие феномены попадаются, куда там Калиостро! Вот, к примеру, идет такой через темные дворы, а мысли у него Бог знает где витают. Да и выйдет в задумчивости в арку, которой на том месте отродясь не было. И хорошо еще, если просто пройдет, а если потеряет что-нибудь, или, еще хуже принесет оттуда? Так-то любую дыру несложно зарастить, а после обмена — поди, закрой ее. Вот я и занимаю их, чем могу, штучки разные подсовываю, фокусы показываю, лишь бы заняты были. Ты чего так смотришь? Не слыхал, что ли, об изнанке городской?
— Слыхал, почему же нет, — осторожно ответил я. — У каждого города старше ста лет она есть. Бывает, и раньше наращивают. Только что плохого в том, что они на изнанку проходят?
— А то, что она у меня и так вся в дырах. Вода-то рвется оттуда ко мне, ей только щелочку приоткрой, — сразу хлынет. А это тебе не Нева, там вода другая. Хлебнешь ее — навек разум потеряешь.
Я едва верил своим ушам. Столетия подряд вода изнанки городов давала силу магам и колдунам, да и целители ею не брезговали. Хотя да, пройдя сквозь эту воду единый раз, уже никогда не могли видеть мир прежним. «Разум потеряешь», надо же. Неудивительно, что у него вся изнанка в дырах, подумал я, заделывают-то ее маги, и уж конечно же не с лицевой стороны.
Питер меж тем продолжал ворчливо:
— Уж и не знаю, откуда они берутся на мою голову. Желторотые, дети бессмысленные, им бы в университетах над книжками сидеть, а они — в мистику. А потом по весне, то одного из петли вынут, то другая на Петровской косе всплывет. А все от мистики, от Елагинских бредней. Был у меня такой, колдовал у себя на острове, все в мальтийцы рвался. Хлопотал, да так ничего и не выхлопотал. Оно и слава Богу. Не верю я во франкмазонство это, в колдовство да мистику.
— Хм, — сказал я, пряча улыбку, — В мистику не веришь, а двери все ж на всякий случай запираешь?
— А как же, — отозвался он. — Ведь поналезет же всякого. Мне и своих привидений хватает, в иных домах их до десятка. Да Лишний мост этот еще.
— Что за Лишний мост?
— А появляется иногда. То от Сенатской, то от Коломны. Куда уводит — бес его знает. Кто по нему ни ходил — ни один не вернулся. Я иногда малолеток нарочно к нему вывожу. Уходят, как миленькие. Плачут, а уходят. И лучше так, чем в петлю.
Я хорошо знал, куда они уходят. Кто-то так и пропадал в пустоте, но некоторые выкарабкивались. Но до сих пор я не знал, откуда они приходили. Сквозные, легкие люди. Реальность плавится вокруг них, как в жерле вулкана, все, что угодно, можно вылепить в их присутствии. Любой город мечтает заполучить такого странника и оставить у себя хотя бы на время. А этот — спроваживает. Ну и ну.
— Но как же ты сам без Сквозных людей?
— Что еще за сквозные люди? — насторожился Питер.
— Люди-сквозняки. Люди, через которых дует ветер, с лицевой стороны мира на изнанку и наоборот. Люди-форточки, люди-окна. Через них смотрят другие миры в этот, через них этот мир отваживается смотреть на других. Держатели, хранители. Те, в кого вырастают твои несмышленыши, как ты их называешь. Если выживают, конечно. Самые лучшие — настоящие флейты в руках Того, Кто играет.
Сказал — и тут же пожалел об этом. Питер навис надо мной, как нависал давеча на острове, упер руки в бока и прошипел сквозь зубы:
— Ты мне голову не морочь! Ничего не выходит из этих ворожей! Добро еще, если их удается к ремеслу какому приспособить, по дереву там или камню, вон, Мухинское да Академия художеств, учись, твори на здоровье! А угодно Господу послужить, так иди, дружок, в семинарию! Слышать не хочу об этих безобразиях! Молод ты еще, о Божьих флейтах рассуждать! У тебя, небось, этого народу нету. Из них выживает один на дюжину, если хочешь знать!
— Я знаю. Но этот один… — начал было я, но он меня перебил.
— А с остальными мне что делать? Смотреть, как они себя губят пьянством да бабами или еще чем похуже? Я лучше смолоду у них эту дурь выбью!
Я прикусил язык. Этих я тоже видел. Место под сквозняк у них остается, но оно забито со всех сторон. Его затыкают чем попало: когда придуманными героями, а когда и живыми людьми. И оно вечно голодно, это место. И всегда болит. Поэтому тех, кем его кормят, приходится менять очень часто или держать целую свиту.
— Вот он, твой Дом Книги, — сказал вдруг Питер. — Вот этот, с глобусом. И запомни. Запомни хорошенько: я не виноват. Ни в тех смертях, на которых меня построили, ни во всех тех, что потом, особенно осенью. Я в них не виноват. Хорошо это запомни. Ясно тебе?