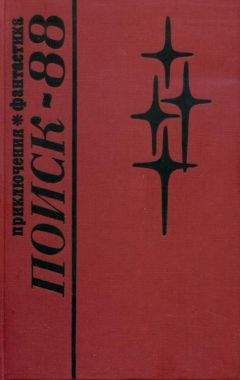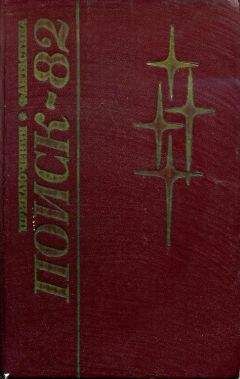Она подхватила нас под руки и в который раз вздохнула:
— Когда ж это было, чтоб «в Сочах пляс»? В прошлом веке, наверное. А в этом, старички, накормлю вас сейчас, напою, и уснете вы, диды, и приснятся вам...
— ...коты Лопес и Бонифаций, — закончил я.
— После нынешних воспоминаний, скорее, — Сэр Тоби, — поправил Владимир, после чего мы замолчали надолго, переполненные своим, что высвободил и снова заставил прожить сегодняшний день.
Тропинка свернула в яблоневые посадки.
Старые да плешивые... Она права. Поскрипывает в суставах и пояснице «морская соль», побаливает там и сям — в местах, где терзали тело осколки, пули, рваное железо родных кораблей, на которое часто швыряла дура-война...
Обрывы налились закатной краснотой. Тишина спадала с небес на море и сухую крымскую землю. За спиной снова грянуло:
...р-ребята, ребята, сюда мы бег-гали когда-то, когда-то,
Глаза сверкали, к-как-к аг-гаты, агаты, агаты-ы,
И на щека-а-ах игра-ала
крофффь!..
«Что есть наша жизнь? — машинально, продолжая инерцию нынешнего дня, размышлял я. — Вопрос равносилен другому, извечному: «Что есть истина?». Сколько ни долбишь лбом в эту проблему, высекаешь только новые вопросы. А где ответы? А хрен его знает! Наверно, за семью печатями. И выходит, чтобы не свихнуться, существует механизм, регулирующий наше состояние и поддерживающий человека в работоспособной уравновешенности. Баланс — великое чудо! Чуть дрогнула стрелка со знаком «минус» — испортилось настроение, еще скачок на пару делений — поперли раздражение и всякая хреновина, а если зашкалило стрелку — капец. В мозгах — сумеречный кисель. Увязнет в нем шизик-параноик и тщетно бьется над алогизмами бытия, пытаясь разрешить вывихнутыми мозгами хотя бы один, самый больной и въедливый, вопрос, да куда там!..»
— Н-да, гамлетовская проблема... — вырвалось вслух.
— Ты о чем? — встрепенулся Владимир.
Пришлось объяснять, и он, помешкав, согласился:
— Должна существовать в организме машинка. Без нее кто ж выдюжит? Представь, что живем мы как бы в двух измерениях. Сознание живет, естественно. В настоящем и параллельном, которое и есть прошлое и, значит, течет с постоянным замедлением, все больше отстает, теряет отчетливость и существует в нас на равных правах с давними, как ты говоришь, полузабытыми снами. Словом, то ли было, то ли нет. И потому нам, Федяка, кажется, что все вопросы были когда-то решены. Решены, понял? А все остальное — поблазнилось.
...не зная горря, горрря, гор-ря,
в стране магно-лий пле-щет
мор-рре!..
— Услышишь такое — поблазнится, — улыбнулась Красотуля.
— Ну так нам сегодня весь день потому и блазнилось! — переглянулись мы. — День прошел «не зная горя». Как у этих парней, что целый день крутят одну пластинку. Чего нашли?
— Свое, нынешнее, а мы — прошлое, а ведь оно совершенно неизвестно им...
— Это уж слишком! — не поверил я. — Должны знать, по крайней мере, что их нынешнее зиждется на нашей военной яви. В ней, увы, мало хорошего: грязь, пот, кровь, а куда денешься?
— В том и парадокс, — сказала Красотуля, — они вроде бы все знают, а в сущности, не хотят знать ничего.
— Не парадокс, а перекос... — проворчал Владимир. — А по мне один дьявол! Мне от них немногое нужно. Пусть поют свои песни, пусть танцуют свои танцы, пусть работают и строят, пусть не забывают наше прошлое, но пусть война остается с нами, в наших полузабытых снах. Не приведи им военного настоящего, Федя!
— Эх, Володя, Володя, забыл, что многие из них уже хватили свою долю и «нашей яви» и орденов. Боевых.
— Об этих помню, но молчу. Мне думается, этим тяжельше, чем было нам... Не знаю их мыслей. Не знаю. Ни тех, с какими летят туда, ни тех, с какими возвращаются. Кто возвращается, значит, а кто не вернулся?.. Но знать бы их мысли хотел. Чтобы понять. И может быть, не только их, но и себя.
— А почему же ты думаешь, что нам было легче? — показалось, что он неправ.
— А вот думаю. Просто думаю... Нам было легче притереться к мирной жизни, потому что вокруг — миллионы таких же битых и тертых. И страна — в разрухе да голодухе. У всех одна цель на уме — все тянулись к лучшей доле. А эти... из огня, да к... ну не знаю! Рок, сытость, тряпки, мелочность... Как притереться? Одни имеют в с ё, другие в с ё теряли. Жизни теряли, понимаешь?
— Такое трудно понять, — вздохнула Красотуля, — а я по-бабьи мыслю: любая война — не сахар, так лучше б ее совсем утопить в вашем море, а после всем миром подумать, как быть, как жить. Ведь горько, ведь больно и страшно, когда молоденьких снова... в землю... А их матерям каково?
— Ах, мама Адес-са, синий океан! — Арлекин крякнул и обнял жену. — Все ты разъяснила, все. Ладно. Пусть. Пусть так и останется. Пока... Нужно — не нужно... Трудно решать в таком деле за сыновей, особенно когда — за чужих.
— Наших, Володя, — тихо сказала Красотуля.
— Да, свой хомут на чужую шею не натянешь, — поддержал я друга, хотя и понимал, что наши разговоры — пустое. Лучше б распроклятая война действительно осталась только в наших снах. Мы, худо-бедно, свыклись. Сорок лет ноше — мозоль натерла. А этим — на свежье. Что ни шаг — кровь сочится, и шкура в клочьях.
...Цикады редко и осторожно пробовали скрипучие, словно усохшие за день голоса. Они робко возникали в посадках и отчетливо слышались, стоило умолкнуть музыке. А музыка стала иной. Будто сменились те, у проигрывателя или магнитофона. Там, у моря, вспыхнули лампионы, и к танцплощадке, точно мотыльки на свет, стали слетаться парочки и вездесущие мальчишки. Танцплощадка светилась сквозь черную листву. Там чувствовалось движение, доносился оттуда глухой рокот, гул, а над всем — плеск волн и голоса.
Я будто очнулся и, оглянувшись, понял, что мы уже давно сидим на скамье под тонкоствольными молодыми яблоньками.
— Слетаются, будут кружиться и... гореть, — Красотуля поднялась со скамьи и взяла нас за руки: — А может, старички, и мы заглянем на танцы?
— Возьмем и заглянем! — тряхнул Арлекин лысой головой. — Что нам терять, кроме бессонницы, Адесса-мама, синий океан!
Павел Панов
Западный ветер
Повесть
Это место, похожее на гигантскую изломанную воронку, — на юге Камчатки. Там, между иззубренными каменными краями кальдеры — древнего кратера палеовулкана, парят термальные источники и от них наносит запахом серы. А ближе к современному вулкану, по сумасшедшей крутизне, почти не касаясь земли, каскадами водопадов летят ручьи. Если смотреть сверху, в блистер вертолета, кальдера — и без того вогнутая — кажется глубокой и мрачной, где в самый солнечный день сумрачно и сыро. Так оно и есть — на дне каньонов, но наверху веселыми пятнами растет кедрач и ольховый стланник, спускаются с гор белейшие языки снежников, а рядом с ними желтеют цветы. Красиво здесь, но непривычная это красота. Даже видавшим виды камчадалам бывает неуютно от безумной щедрости природы, которая намешала все подряд — черные камни и темно-зеленые кусты, снежники и теплые заросли цветов.