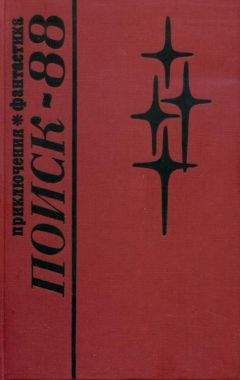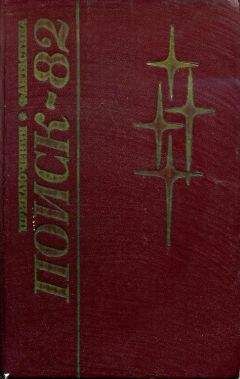Раньше эта воронка плескала в фиолетовое доисторическое небо тяжелый огонь, разбрызгивала многотонные лепешки лавы, и крылатые звероящеры визжали от страха, ковыляли по оплавленным камням к обрыву, волочили по горячей земле свои кожаные крылья, а потом срывались вниз, ловили острой грудью поток воздуха и уносились куда-то вдаль — не то к первобытному Океану, не то прямо в Преисподнюю.
Сейчас это место более известно страстями по дорогому металлу, переломанными костями по ледникам и снежникам да еще — хорошей охотой и богатой рыбалкой. Всего в десятке километров отсюда впадает в Тихий океан река Жировая и по ней с июня по ноябрь идет рунным ходом красная рыба, спускаются с гор медведи, добираются по тропам браконьеры, налетает на вертолетах разное начальство и рыбинспекция...
А в другую сторону, за перевалом, начинаются отроги нового вулкана — Мутновского. Он лежит бесформенной громадой, и прямо в кратер можно войти по пологому склону сквозь Чертовы ворота, а там, по изъеденным камням, по красно-желтой хрусткой земле хлещут тугие струи пара — со свистом, хрипом, бульканьем... Шипит мертвый ручей в кратере, и по берегам его, испачканным натеками серы, надуваются пузыри подземного газа. Лопнет такой пузырь — и всхлипнет утробно земля...
Дальше — вулканы: Горелый — вечно грязный, дымящийся... Осадчий, Опала — остроконечные, классически холодные... А еще дальше — вздыбленная, дикая земля. Вот и все, что можно увидеть с кромки кратера Мутновской сопки, пока не набегут слезы от напряжения или пока не натянет ветром фумарольный пар с резким кислотным запахом — и запотеют от него линзы бинокля.
В старой кальдере, через ручей, по снежному мосту перешел медведь. Задрав башку, он понюхал воздух, проворчал беззлобно. Потом уселся поудобнее прямо на снег, сладострастно зевнул, и на секунду мелькнули его тупые клыки. Зевнув всласть, зверь медленно повалился набок и начал кататься по зернистому насту, терся о его холодную поверхность, оставляя клочья шерсти, взрывая сырой снег когтями, хрюкал от удовольствия, жмурился умильно — словом, вел себя форменной свиньей.
Затем его что-то насторожило. Медведь поднялся на дыбки и неожиданно оказался худым, длинным, нестрашным. Выпятив узкую грудь, он выставил вперед тяжелые лапы и замер неподвижно — всматривался, но маленькие, колючие глаза моргали подслеповато. Потом он неожиданно легко упал на четыре лапы и быстрым махом пошел вверх по пологому борту каньона — легко и бесшумно — и камень не стукнул, и тундровый мусор не хрустнул под тяжестью пятисоткилограммового тела.
Поднявшись на сухое каменистое плато, медведь еще раз принюхался и скрылся в зарослях кедрача — словно его и не было.
А звук, напугавший медведя, становился все громче. И скоро стали слышны рокот вертолетного двигателя, посвист лопастей...
Посадка была сложной. Ветер крутил по кальдере, и пилот с трудом удерживал грохочущую машину над землей. Наконец колеса коснулись плоских камней, грохот стих, дверца распахнулась, и наружу, выбитый мощным пинком, вылетел расхристанный, пьяный паренек. Следом за ним выскочил бортмеханик и заорал, перекрывая затухающий свист турбин:
— Чтоб я тебя полмесяца рядом с вертолетом не видел!
Паренек откинул с лица светлые волосы, посмотрел мутными голубыми глазами на каньоны, снежники, развалы каменных глыб и заявил:
— А в гробу я вас всех видал! Где здесь «сто второй» автобус останавливается? Я в Петропавловск поеду...
Бортмеханик — смешливый рыжий мужик — всплеснул несколько раз руками и открыл беззвучно рот. Внутри вертолета кто-то громко сказал: «Ишь ты!» — и начали вылезать люди. Один из них — рослый, бородатый человек — взял паренька за шиворот, приподнял, задумчиво взвесил на руке и спросил у бортмеханика:
— Что он там натворил, Гена?
— Да чуть провода не оборвал! Ты, Семен, за этим бичом присматривай, намучаешься еще с ним! — уже успокаиваясь, ответил тот.
Семен приподнял паренька повыше и сказал задумчиво:
— А ведь проспится — человеком будет. Будешь человеком-то, Александр?
— А в гробу я вас всех... — снова завел свою волынку тот, но Семен аккуратно опустил его на землю, и он тут же начал устраиваться поудобнее — покемарить. Семен запустил руку в свою седеющую цыганскую шевелюру и засмеялся:
— Ну вот и начался сезон!
Тем временем из вертолета выходили остальные. На секунду задерживались на шатком трапике (сзади тянуло цивильным, аэрофлотовским теплом), быстро осматривались — с любопытством, оценивающе, прыгали на жесткую землю, подходили друг к другу, стараясь поначалу держаться поближе. Их было пятеро. Трое бородатых парней с планшетками и два небритых новичка. Сейчас, в самом начале полевого сезона, они еще не были отмечены печатью общей работы и полевого быта, еще можно было отличить — кто из них попал в геологию впервые, а кто отработал не меньше десятка сезонов. Пройдет два-три месяца, выгорит на солнце и залоснится спецовка «Мингео» с ромбиком на рукаве, одинаково обветрят лица, движения у всех станут ловкими и экономными — и не узнать тогда постороннему взгляду, кто там колдует над аккумуляторами, а кто волокет сушняк на дрова, где там начальник, где подчиненный...
Они разгрузили вертолет, сложили аккуратным штабелем батареи, ящики с продуктами, отдельно — аппаратуру, закрыли груз брезентом, потом Семен махнул рукой, и они послушно легли на брезент сверху, чтобы не подняло, не затянуло в лопасти какую-нибудь тряпку. Двигатель взревел, и каждый из них, задыхаясь от тугого ветра и керосиновой гари, смотрел, как зависло грязное клепаное брюхо вертолета, проплыл над головой бешено вращающийся хвостовой винт, потом рвануло ветром в последний раз, вертолет резко набрал высоту и ушел.
А они остались. И сразу же стало холодно, неуютно. Они переглянулись, словно спрашивая друг у друга: «Что, поживем вот здесь немного?» Они знали, что место это райское — есть дрова и вода, где-то рядом парят термальные источники и должны быть куропатки и зайцы. Они привыкли, что точки региональной электроразведки не выбирают, их намечают заранее, в соответствии с тем, как профиль должен пересечь геологическую структуру. И, нанося точки на карту, никто не смотрит, куда они попадут: в тундру или в горы, на берег моря или в густой лес, — а просто берут линейку и карандаш и отмеряют каждому свое. Потом, когда начнется работа, точку разрешалось сместить на километр-полтора, на карте пятисоттысячного масштаба это почти не заметно, но и на это смещение операторы шли неохотно — здесь дело не только в жесткой неумолимости профиля, но и в снисходительной уверенности операторов-профессионалов в том, что они смогут записать любую точку, в любом месте, в любое время года. «Здесь!» — тыкал пальцем оператор, пилот бросал на нее короткий взгляд, и вертолет заваливался в вираже, зависал над выбранной точкой, взрывая ветром траву или вулканический пепел, — садился... И если не было на точке воды, то ее брали с собой в канистрах, если не было дров, то везли из таежного поселка целую поленницу. И это ни у кого не вызывало улыбки. Работа есть работа! Если твой кадр не поленился загрузить оставшиеся дрова, сложить их поленницей в салоне вертолета, что обшит чистенькой и мягонькой кожей, где с аэрофлотской строгостью нанесены надписи и матово светятся плафоны, а он туда — чурбаки корявой тундровой березы, — то это ценный кадр: он обеспечил отряду тепло и горячий ужин. Если он не постеснялся взгромоздить прямо в кабину к пилотам закопченную кастрюлю с похлебкой («А штоб меньше трясло!»), то это очень ценный кадр, а не дура кухонная, потому что он этой похлебкой — хоть и грош ей цена — накормит не только отряд, но и тех же пилотов — хоть они и в галстучках и при погончиках, а работать мужикам до вечера и пожрать некогда.