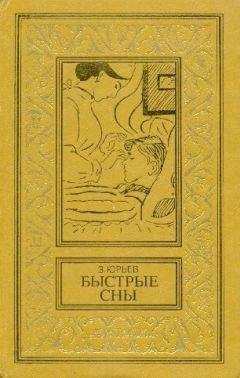– Машенька, – сказал профессор, – посмотри у Вити, нет ли у него чего-нибудь еще… эдакого…
Старушку как ветром сдуло и принесло обратно уже с бутылкой рома «Гавана-клуб». Профессорша прижимала бутылку к груди.
– Борис Константинович, – сказал я, – знаете, как я определил про себя ваши глаза?
– Как?
– Я решил, что у вас глаза участкового уполномоченного.
– По-ра-зи-тельно! – крикнул профессор.
– Почему?
– Потому что я в молодости работал в милиции.
Мы выпили за нашу милицию. Илья что-то шептал Гале на ухо, и она мелко тряслась от смеха.
– Дорогой профессор! – сказал я и почувствовал, что профессор вот-вот раздвоится и что надо его предупредить об этом. – Дорогой Борис Константинович! Я хотел вас предупредить… – Я забыл, о чем хотел предупредить профессора, но он уже не слушал меня.
– Машень-ка! – позвал он, и мне показалось, что голос его звучит уже не так, как раньше. А может быть, это я уже плохо слышал. – Машень-ка! Посмотри, нет ли у Вити чего-нибудь… Ром не годится.
Я посмотрел на бутылку «Гавана-клуб». Она была пуста.
Ночь постепенно теряла четкие очертания. Машенька еще дважды ходила к Вите, и Витин дух послал нам бутылку «Экстры» и бутылку «Саперави». Эту бутылку профессорша чуть не уронила, так как споткнулась об Илюшину ногу, и Илья поймал ее на лету.
Потом пришел какой-то немолодой лысоватый человек, назвавшийся Витей, и я доказывал ему, что Витей он быть не может, потому что Витя – это ребенок, мальчик такой ма-а-аленький, которому негде спать, так как злые родители заставили всю его комнату бутылками.
Лысоватый человек почему-то пожал мне руку и со слезами на глазах признался, что он все-таки профессорский сын и сам профессор.
Я сказал ему, что профессорский сын и профессор – совсем разные вещи, но он пошел в свою комнату, принес оттуда бутылку венгерского джина и какую-то книжечку, которую он все порывался показать мне, уверяя, что из нее я узнаю о его звании.
Потом он танцевал с Ниной, и Нина сбросила туфли, и мне было смешно и грустно одновременно, потому что все были такими милыми, что сердце у меня сжималось от любви к ним всем.
Нина позвонила мне домой и передала просьбу Бориса Константиновича приехать к трем часам в институт. Оказалось, что он идет к директору и хочет, чтобы я был наготове.
– Посидите в приемной с Ниной Сергеевной. Может быть, вам придется продемонстрировать еще раз свои способности, – сказал профессор, когда я примчался к нему.
Мы пошли к кабинету директора института. Впереди – решительный Борис Константинович, за ним – Нина, а за ней уже и я.
– Оленька, Валерий Николаевич у себя? – кивнул профессор на дверь, на которой красовалась табличка «В. Н. Ногинцев». – Он назначил мне аудиенцию ровно на три.
Оленька, существо лет восемнадцати с ниспадающими на плечи русыми волосами, подняла глаза от книжки, которая лежала на пишущей машинке, и кивнула.
– Сейчас, Борис Константинович. – Она нажала на какой-то рычажок и сказала: – Валерий Николаевич, к вам Борис Константинович Данилин.
– Попроси его, пожалуйста, – послышался из динамика низкий мужской голос.
Именно такими голосами должны обладать, по моему глубокому убеждению, обитатели больших кабинетов, перед которыми сидят секретарши с длинными русыми волосами.
Борис Константинович коротко кивнул нам и исчез за обитой черным дерматином дверью.
– Здравствуйте, Борис Константинович, – послышалось в динамике.
– Добрый день, Валерий Николаевич, – ответил голос профессора.
Русоволосое существо потянулось к рычажку, и я вдруг неожиданно для самого себя сказал:
– Оленька, дитя мое, а зачем лишать нас маленького удовольствия? Дайте нам послушать, о чем будут говорить ученые мужи.
– Нельзя, – сказала Оленька, но динамик не выключила.
– А такой красивой быть можно? – спросил я и сам покраснел от бесстыжести своей лести.
Оленька прыснула и посмотрела на Нину Сергеевну.
– Да ничего, он свой. – Нина кивнула в мою сторону с видом заговорщика.
– Ладно, только никому ни слова, а то Валерий Николаевич знаете что мне сделает…
Я не знал, что он сделает Оленьке, но особенно за нее не волновался. Судя по ее манерам, еще большой вопрос, кто кому больше сделать может – директор Оленьке или Оленька директору.
– Валерий Николаевич, я к вам по не совсем обычному делу, – сказал Борис Константинович, и, даже пропущенный через сито динамика, голос его звучал напряженно.
– Слушаю вас.
– В нашу лабораторию сна пришел молодой человек, двадцати пяти лет, и попросил, чтобы мы определили, какой характер носят его сновидения.
– И что же снится молодым людям в наши дни? – мягко забулькал директорский бархатный бас. – Неужели не то, что снилось нам?
– Нет, Валерий Николаевич, – твердо, без улыбки в голосе сказал профессор, сразу же уводя разговор в сторону от предложенной директором слегка шуточной тропинки. – Юрию Михайловичу Чернову снится незнакомая планета, которую он называет Янтарной, так как именно этот цвет преобладает там. Юрий Михайлович уверен, что эти сновидения – не что иное, как мысленная связь, установленная с ним обитателями этой планеты.
Мне стало зябко, и по спине пробежал озноб. Только сейчас я понял до конца, кем должен выглядеть в глазах нормального человека.
– Гм, гм! – басовито кашлянул директор, и в глухих раскатах его голоса можно было уловить приличествующее случаю сочувствие. – Нужно ему помочь?
– Да. Но речь идет вовсе не о психиатрической клинике. Дело в том, Валерий Николаевич, что идеи Юрия Михайловича – не заболевание и не иллюзия.
– То есть?.. – Голос директора прозвучал чуть суше, словно влажный и мягкий его бас слегка подсушило нетерпение.
Я почувствовал, что изо всех сил сжимаю подлокотники зеленого кресла. Каково же сейчас Борису Константиновичу? Милый, несимпатичный, упрямый и несгибаемый профессор.
– Мы имеем все основания считать, что Юрий Михайлович не ошибается, что с ним установили связь представители некой внеземной цивилизации.
– Очень мило, – облегченно засмеялся директор. – Я, признаться, не подозревал, уважаемый Борис Константинович, что вы у нас шутник-с…
– Я понимаю вас, – сухо и твердо произнес профессор. – Я полностью отдаю себе отчет в том, какое у вас должно сейчас сложиться мнение обо мне вообще и о моих умственных способностях в частности. Я сам прошел через это, и ваш скептицизм вполне понятен.
– О чем вы говорите, какой скептицизм? – с легчайшим налетом раздражения спросил директор. – Если вы для чего-то решили подшутить надо мной, то при чем тут скептицизм? Помилуйте, уважаемый коллега…