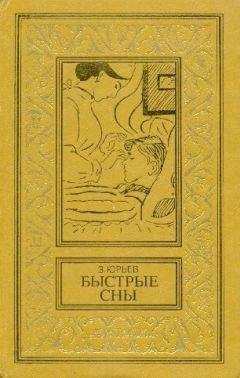Но я уже входил в директорский кабинет.
Директор оказался точно таким, каким я его себе представлял: крупным седым красавцем, стареющим львом.
– Простите, я занят, – коротко бросил он, удостоив меня одной десятой взгляда.
– Я знаю, Валерий Николаевич, что вы заняты. Я как раз тот человек, из-за которого весь сыр-бор.
Директор откинулся в кресле и внимательно посмотрел на меня. Он был так велик, благообразно красив и респектабелен, что я почувствовал себя маленькой мышкой, которая пришла на прием к коту. Борис Константинович молча хмурил брови. Вид у него был встрепанный и сердитый. И вдруг мне так остро захотелось взорвать неприступную директорскую броню, что у меня зачесалось в голове. И вместе с зудом пришел шорох слов, сухой шорох струящихся мыслей. И мысли директора были такие же солидные и респектабельные, как он сам. Такие же корректные и чисто вымытые. Немолодые, но хорошо сохранившиеся мысли:
«Нелепая история… наваждение… Позвать Оленьку…»
– Вы уверены, что это нелепая история, – сказал я, – вы уверены, что это наваждение. Вы даже хотите позвать вашу прелестную девочку, чтобы она выставила меня вон…
«Чушь какая-то… Цирковой трюк…»
– Теперь вы утверждаете, что это чушь какая-то, цирковой трюк.
Краем глаза я заметил, что суровое, взволнованное лицо Бориса Константиновича тронула едва заметная улыбка, и он неумело подмигнул мне.
– Че-пу-ха! – вдруг выкрикнул Валерий Николаевич, и голос его неожиданно стал выше и пронзительнее. – Же де сосьете!
– Уверяю вас, это не салонные игры, как вы говорите. Настолько французский я знаю. Я просто слышу, что вы думаете.
«А может быть, проверить? Ловко он это делает», – пронеслось в голове у директора.
– Конечно, проверьте.
– Что проверить? – вскричал директор.
Его невозмутимая респектабельность исчезала прямо на глазах. Он становился старше, меньше, крикливее, торопливее и суетливее. Он уже больше не был львом. Даже котом, к которому пришла на поклон мышка.
– Проверьте, как ловко я это делаю.
– Не смейте! – уже совсем тонким голосом взвизгнул директор.
Прошелестела дверь. Я обернулся. В дверях стояли Оленька и Нина Сергеевна. Я подмигнул им. Я уже не нервничал и не боялся. Веселая, озорная волна подхватила меня. Опьяняющая радостная невесомость, в которую погружал меня У.
– Что не сметь?
– Не смейте читать мои мысли!
– Да позвольте же, Валерий Николаевич, разве читать чужие мысли возможно? Вы же уже полчаса утверждаете обратное. Или вы теперь согласны с тем, что я слышу чужие мысли?
– Я ни с чем не согласен, – уже несколько спокойнее отчеканил директор. Должно быть, Оленька вливала в него силы. – Это элементарный трюк. Цирк. Вы видите мое лицо, вы знаете, о чем идет речь, вам вовсе не трудно догадаться, что я думаю. Я этого тем более не скрываю.
Последняя мысль, по-видимому, несколько поддержала директора, потому что он начал снова увеличиваться в размерах, опять заполняя собой вращающееся немецкое креслице.
– Вот именно, – сказал я и почувствовал, что держу аудиторию в своих руках, что рядом со мной Нина, что ее большие серые глаза смотрят на меня с восторгом и ужасом, что, наконец, на меня смотрит длинноволосая Оленька, которая, наверное, и не представляла, что с ее всемогущим шефом можно так разговаривать. – Вот именно, – повторил я. – Что же может быть проще? Я сейчас выйду из комнаты, вы напишите на листке бумаги какие-нибудь две-три фразы, вложите листок в конверт. Я вернусь в комнату и назову эти фразы. Или не назову их. И все станет ясным.
Все замолчали. И вдруг раздался Оленькин голосок:
– Ой, Валерий Николаевич, сделайте правда так?
Спасибо, Оля! Дай бог тебе хорошего мужа, а если потом дойдет до развода, то быстрого и безболезненного.
Директор института пожал плечами:
– Для того, чтобы покончить с этой нелепой сценой.
Я вышел в приемную, уселся в кресло, в котором уже сидел. Зеленая искусственная кожа на правом подлокотнике лопнула, и сквозь трещинку видна была какая-то набивка. На пишущей Оленькиной машинке все так же лежала открытая книга. Я встал и посмотрел на нее. Биология. Не поступила, наверное, готовится снова.
Я сосредоточился. Надо было отсеять ненужные слова, принадлежавшие Борису Константиновичу, Нине и Оленьке. Убей меня бог, чтобы я мог объяснить, как я это делаю.
Я услышал сухой шорох директорских мыслей: «Что бы такое написать… чтобы покончить с этой комедией?.. Кто бы мог подумать, что Данилин способен на такое… Не будем отвлекаться… Что-нибудь такое, чтобы он не мог догадаться по ситуации. Что-нибудь такое, что не имеет отношения к этой сцене… Ну-с, например, что-нибудь вроде этого… „Наш институт…“ Нет, это глупо. Нельзя даже упоминать институт в связи с этим шарлатанством… Однако надо что-то написать… Это становится смешно… Они смотрят на меня… Какие-нибудь стихи, может быть? Прекрасно. Что-нибудь школьное, что Оленька знает… „Ты жива еще, моя старушка?“ А почему бы и нет? Пишем. „Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой…“ Какой там свет? Какой-то там свет? Бог с ним. Достаточно».
Пора. Я медленно вошел в директорский кабинет. Все головы повернулись ко мне. Первый раз в жизни я почувствовал себя артистом. Я закрыл глаза и приложил руку ко лбу. Нельзя же разочаровывать девушку с такими необыкновенными волосами.
– "Ты жива еще, моя старушка? – начал декламировать я чужим, деревянным голосом. – Жив и я. Привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой…" Строка не окончена. Не Есениным, а Валерием Николаевичем. – Я подошел к столу. – Можно конверт?
Директор автоматически взял конверт и протянул его мне. На мгновение мне стало даже жалко его.
– Ольга! – театральным голосом сказал я и протянул конверт Оленьке. – Прошу вскрыть и прочесть вслух.
Словно завороженная, не спуская с меня широко раскрытых глаз, Оленька протянула руку, медленно взяла конверт, открыла его, достала листок, бросила на него быстрый взгляд и громко и явственно сказала:
– Ой!
– Что «ой», дитя мое? – спросил я, самым тщеславным образом упиваясь и Оленькиным «оем», и едва сдерживаемым торжеством милого Бориса Константиновича, и слабой улыбкой Нины.
– "Ты… жива… еще… моя… старушка…" – с трудом, запинаясь, начала Оленька.
– Смелее, дитя, это же не экзамен.
– Хватит! – крикнул директор. – Я даже не спрашиваю, как вы это делаете. Телепатии не существует…
– Вообще-то, наверное, да, но в этом случае… – начал было Борис Константинович.
– Никаких «наверное», никаких «этих» и «тех» случаев! Передача мыслей на расстояние невозможна…