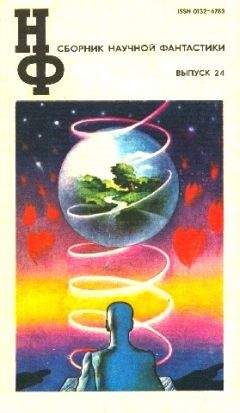— Кто ты? — спросил Веснин, останавливаясь.
Голос Кубыкина ответил:
— Ты не поймешь ответа.
«Вот и доработался, — не без издевки сказал себе Веснин. — Хорошо поработал. И образы четкие — прямо по Серову. Пиши с натуры!» И уже не зная что делать, спросил:
— Это ты?… Кубыкин?…
— И да, и нет, — ответил голос Кубыкина. — Выбери ответ сам.
«Вот и выберу! И скажу, валяй, мне вставать рано!»
Но вслух это произнести Веснин не смог. Только сжал кулаки:
— Но если ты не Кубыкин, то… кто ты?
— Иной, — ответил голос. — Я — иной.
— Иной Кубыкин? — изумился Веснин. — Разве Кубыкиных двое?
— Ты не поймешь ответа.
— Но ты… человек?
— И да, и нет. Выбери ответ сам.
— Но ты же разговариваешь со мной, и мы понимаем друг друга! Почему же я не пойму?
— Выбери ответ сам.
— А-а-а… — догадался Веснин. — Ты, наверное, не имеешь своего голоса, а потому берешь первый попавшийся. Вроде как на прокат, да?
Призрак промолчал.
— И ты уже с кем-то разговаривал? Я не первый?
— Да.
— Но если так, — Веснин вытер ладонью взмокший лоб, — значит, о тебе что-то знают, тебя кто-то видел, тебя кто-то встречал…
— Помнят ли тебя все те дети, с которыми ты где-то когда-то разговаривал?
— Дети? — переспросил Веснин. — При чем тут дети?
Спрашивая, он на ощупь искал спички. Не решался повернуться к призраку спиной, холодел от его мерцания:
— Я что, похож на ребенка?
— Ты не поймешь ответа.
— Но что-то должно нас связывать, если ты идешь на разговор с нами и даже пользуешься нашими голосами!
— Да, Разум.
— А-а-а… — протянул Веснин. — Братья по разуму!
Он произнес это с иронией. «Братья по разуму» был один из самых известных его романов, но сейчас, в этой одуряюще душной ночи любая литературная ассоциация выглядела по меньшей мере нелепо. И Иной, казалось, ощутил это:
— Твоя усмешка определяет ступень твоего разуме.
— У разума есть ступени?
— Да.
— Их много?
— Мы насчитываем их семь.
— На какой же находимся мы — люди?
— Вы вступаете на вторую.
Веснин нащупал, наконец, спички. «Интересно взглянуть — что там, за сосной? И у палаток. И у кухни… Не Ванечка же устроил этот концерт?…» Он представил тоненькие Ванечкины усики и решил: с него станется!
Призрак медленно поплыл по стволу сосны, и Веснин услышал:
— Я не стесняю твоей свободы. Ты волен выбирать сам.
«Еще бы! — нервно хмыкнул Веснин, — Конечно, волен. Только что будет, если я попаду под высокое напряжение?…» Но вслух он опять ничего не сказал, только молча, замирая, чувствуя колодок в груди, подполз на четвереньках к выходу, за которым услужливая, но слишком громогласная молния сразу высветила пустой, как пустыня, лес — никого! Кричи, вопи — никто тебя не услышит. Все спят.
«Значит, не Ванечка…» Эта мысль, как ни странно, успокоила Веснина. Он не любил шуток, суть которых до него не доходила. И осмелев, он поднял глаза на то, что называло себя Иным:
— Значит, ты не человек?
— Ты не поймешь ответа.
— А твоя родина… Я могу узнать, где она?
— У разума одна родина.
— Что это значит?
— Ты не поймешь ответа.
— Но я понимаю твою речь, я, наконец, вижу тебя! Почему же я не пойму ответа?
— Ты не видишь меня. Ты не можешь видеть меня.
— Разве это… — Веснин замялся. — Разве это газовое облачко не ты?
— Так же, как и голос.
— А почему я не могу видеть тебя?
— Ты не готов к встрече.
— Но если между нами есть какая-то связь… ты этого не отрицаешь… Если я могу выбирать ответы сам… Я ведь могу решить, что ты — это нечто невообразимо далекое, но действительно имеющее отношение ко мне… Может, мой слишком далекий потомок… Значит ли это, что когда-нибудь я и сам стану таким?
— Как вид. Но не личность.
— Ни один вид сапиенса на Земле не просуществовал более шестисот тысяч лет. Выходит, мы, люди разумные, можем существовать дольше?
— Ты не поймешь ответа.
— Ты разговариваешь со мной, как с ребенком, — обиделся Веснин. — Когда мы что-то не хотим объяснить ребенку или не можем объяснить, мы так и говорим: «Ты не поймешь». Но ты… Неужели ты явился лишь для того, чтобы убедить нас в нашей неподготовленности?
— А разве ты, возвращаясь в детство, поступаешь не так же?
— В какое детство?
— В свое.
— Я не умею, — растерялся Веснин. — Этого никто не умеет. А если бы и умел… Зачем мне возвращаться в детство?
«Да, — подумал Веснин. — Зачем? Жарить картофельные очистки на той железной печурке, что стояла в нашем доме и сжирала неимоверное количество дров, которые именно мне приходилось таскать из леса? Мерзнуть в бесконечных очередях, даже не зная, будет ли сегодня хлеб? Жадно глазеть на книги за окном закрытой библиотеки?… Не очень-то веселым было мое детство… Не очень-то мне хочется вернуться туда…»
Веснин вспомнил мать. Усталую до слез, но счастливую — она выменяла на старый комод кусок мутного, желтого, как табак, сахара. Маленький праздник. Господи! Он, Веснин, не хотел возвращаться в свое военное детство. Наоборот, он, не раздумывая, вытащил бы из этого детства свою умершую от недоедания сестру и мать, распахивающую огород на корове, и даже соседа, в ледяную январскую ночь укравшего у них чуть ли не половину дров… Он-то, Веснин, выжил, ушел из детства в юность, и дальше, туда, что называют зрелостью. И взял потом свое, отдышался, попробовал настоящий сахар. А вот младшая его сестра навсегда осталась в детстве. И сосед остался там. И мать — со всеми маленькими голодными праздниками, со всей огромной военной никому теперь не объяснимой тщетой, и с еще более огромной верой в скорые изменения… Нет, Веснин не хотел возвращаться в детство. Он и в книгах не наделял своих героев детством, сознательно уходил от этого. Слишком много несладких ассоциаций стояло за этим словом…
— Зачем тебе детство? — спросил Веснин. — Тем более наше детство.
— Я собираю опыт.
— Тебе недостаточно своего?
— Ты не поймешь ответа.
— Кто же идет за опытом в детство? И какой опыт ты собираешься там найти?
— Подобный твоему.
— Но для этого надо прожить мою жизнь. Какая польза тебе от моих слов, если я даже смогу пересказать опыт?
— Мне не надо слов, — сказал голос Кубыкина. — Ты вспоминаешь, ты чувствуешь. То же самое вспоминаю и чувствую я.
— И мой опыт становится твоим? — не поверил Веснин.
— Да.
— И где-то, когда-то, в том неизвестном мире, из глубин которого ты явился, ты частично можешь ощутить себя мною, Весниным?