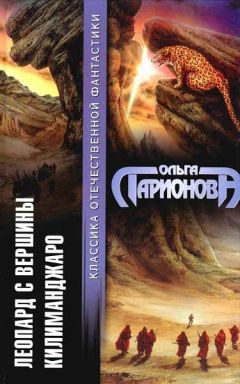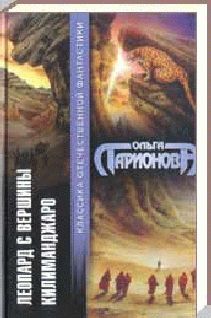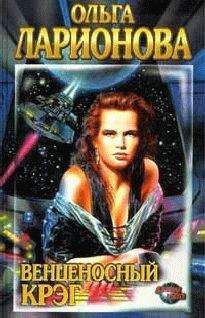— А вы можете задирать нос, Рамон, — сказал Джабжа, словно угадывая мои мысли. — Мы ведь далеко не каждого сюда пускаем, да еще и без предлога.
— От меня ждут реверанса?
— Да нет, оставь это Илль. У нее выйдет грациознее, хотя и у тебя что-то есть в движениях, — с этими словами Лакост протянул мне свой рисунок.
Это был набросок чаши или пепельницы, или еще какой-нибудь лоханки вполне античной формы. На краю чаши, свесив одну ногу, сидел обнаженный сатир. Справа от него, тоже на самом краю, лежала, распластавшись, ящерица, и сатир, полуобернувшись, смотрел на нее.
— При всех своих рожках и копытцах он чересчур строен для сатира, — сказал я. — Да и композиция того, под стать жанровой картинке. В общем, не строго.
— Ишь ты, — сказал Джабжа. — Разбирается.
Он потянул у меня рисунок, потом засмеялся, наверное, до тех пор Лакост ему не показывал. Потом кинул досочку обратно мне.
Я посмотрел и понял, что сатир — это я.
Вот чудеса! Можно было подумать, что кто-то видел, как я тогда, еще летом, разговаривал с ящерицей на побережье. Но набережная вроде была пустынна. К тому же нужна была феноменальная память, чтобы запомнить случайного прохожего, да еще и умудриться его раздеть. И еще эти рога и копыта…
— Это еще откуда? — позволил я себе удивиться.
— А так. Просто есть подходящий кусок порфирита, серый с лиловато-коричневым оттенком. Отдам в грубую обдирку по эскизу, а остальное закончу сам.
— И зачем?
— Илль под шпильки. Девочка страдает снобизмом — у нее каждый гребешок должен быть ручной работы.
— Забаловали ребенка.
— Все он попустительствует, — Лакост кивнул в сторону Джабжи. Тот только ухмылялся.
— А кстати, где она?
— На вызове. Случай пустяковый, справился бы и робот, да люди перетрусили, в первый раз — им человек нужен.
Я вспомнил себя, барахтавшегося на дне ледяной канавы и понял, что в моем случае тем более не требовался человек — достаточно было послать робота.
— Они сами вызвали помощь?
— Да нет, просто мы знали, что тропа вскоре оборвется, а сзади ее засыпало. А на тропе пятеро, все малыши. Илль полетела им носы вытирать.
— Значит, вы постоянно наблюдаете за каждым километром заповедника?
— Во-первых, не мы, а сигнальщики. Как только сигнальщик чует недоброе — он поднимает тревогу. Так было в прошлый твой приезд, с обвалом.
— А сигнальщики не опаздывают?
— Все, что ты тогда слышал, было передано до того, как обвал накрыл людей. Он еще двигался, а мы уже вылетали. Потому и точные координаты, и толщину снеговой массы мы узнаем уже в мобиле. Во-вторых, за каждым километром смотрят наблюдатели, они учитывают состояние дорог, ледников, массивов снега и подобную статистику. Сигнальщики же прикреплены к людям — как только человек пересекает границу заповедника, к нему приставляется сигнальщик. Это — его ангел-хранитель.
— Посмотреть бы…
— А что ж. Товар лицом.
Мы оставили Лакоста продолжать свои псевдоантичные экзерсисы и поднялись в зал наблюдения.
Он находился этажом выше и занимал всю верхушку горы, так что потолок его конусом уходил вверх. Стены его представляли собой огромный экран, то распадающийся на отдельные участки, то сливающийся в единую панораму. Какие-то ящики ползали вдоль стен, то поднимаясь на тонких металлических лапках, то вообще повисая в воздухе, перебираясь один через другой и тыркаясь в самый экран. Вероятно, это и были сигнальщики.
— А вот и Илль, — сказал Джабжа, подводя меня к мутно-голубому экрану. Шесть темных фигурок двигались по совершенно гладкой стене, карниз не просматривался.
— Она идет первой?
— Нет, она сзади. Плохая видимость — граница квадратов.
— А далеко это отсюда?
Джабжа что-то сделал с ящиком, висящим перед этим экраном.
— Двести шестьдесят четыре километра, — голос, подававший тревогу, раздался откуда-то сверху. Он очень напоминал красивый баритон Джабжы. Ну, правильно, у каждого сигнальщика не может быть собственного диктодатчика, это было бы слишком сложно.
— Центр должен иметь колоссально много параллельных каналов, — сказал я полувопросительно.
— Еще бы! Недавно его сильно переоборудовали — станция ведь создавалась лет триста тому назад, многое ни к черту не годится, да и тесновато.
— Мы в детстве собирались в Гималаи, да я начал готовиться к полетам, — заметил я как-то вскользь.
Джабжа замахал руками.
— Тоже мне горы! Говорят, на Эверест от подножья до верхушки сделаны ступеньки с перильцами. Там же таких станций, как эта, штук двадцать, ей-ей. Санатории и дома радости на каждом шагу. Высокогорные театры и цирки. Не заповедник, а балаган. Он же начал осваиваться первым, когда люди потянулись из Европы и Северной Америки на необжитые пастбища. Все три столетия, пока осваивался Марс, а Европа чистилась от активных осадков и шел демонтаж всех промышленных предприятий, пока города освобождались от гари и транспорта, пока фанатики древности, вроде Лакоста, носились с реконструкцией каждого города в его собственном архитектурном стиле — Швейцарский заповедник стоял пустыня пустыней. Хорошо еще, какая-то добрая душа догадалась напустить сюда всякого зверья, по паре всех чистых и нечистых. Говорят, за это время здесь даже саблезубые тигры появились. Я их не встречал, но почти верю. А когда Европу снова «открыли», пришлось создать здесь станцию по примеру Гималаев, Килиманджаро, южноамериканского «Плата» и антарктического «Мирного». Но уже здесь — никаких излишеств и курортов. Путевые хижины с комфортом, достойным каменного века. Если уж ты мамин сынок — так и катись в Гималаи. Там одних подвесных дорог, как от Земли до Луны.
Он говорил, а я все смотрел и смотрел на шесть темных черточек, движущихся вдоль светло-серой стены. Как Джабжа узнал, которая из них Илль? Я смотрел и смотрел и все не мог угадать. Для меня они были одинаковы.
— Ну, пошли вниз, — сказал Джабжа, и мы очутились в плавно закругляющемся коридоре.
— Наша кухня, впрочем, здесь ты уже был. Святая святых. У меня шеф-повар — удивительно тонкой настройки тип. Я его три года тренировал, помимо того, что в него было заложено по программе. И Лакост с Туаном повозились с ним немало.
— Понимаю, — сказал я. — Я ведь тоже через это прошел. Вероятно, самыми тонкими гурманами были настоятели монастырей.
— Дураки, если они ими не были.
— Были, иначе делать нечего.
— А у тебя был хороший повар там, на буе?
— Никакого. Мне это в голову не приходило. Да и консервы все были свежие — мы сами же их привезли.
— Консервы! Ну, тут-то я определенно повесился бы. Ну, потопали дальше. Наша гостиная на современный лад. Ничего интересного.