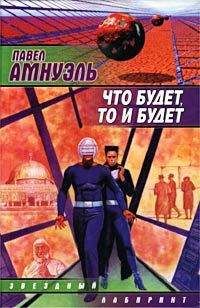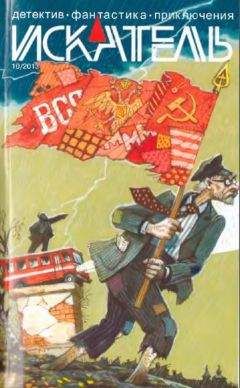— Так как нам проехать…
— По Мелитоне прямо, за светофором направо.
Дом номер четырнадцать оказался обычным четырехэтажным строением, Гатти жил на втором этаже, и мы с Лючией поднялись по довольно крутой лестнице (как он только тут перемещался вверх и вниз в своей коляске?), нас никто не остановил, в небольшой прихожей даже и закутка не было для привратника. На двери квартиры Гатти была приклеена полоска бумаги с парой блеклых печатей, и у меня сложилось впечатление, что бумагу эту уже несколько раз срывали и приклеивали обратно. Соседи? Скорее всего, кому еще нужно было…
— Я войду первая, — сказала Лючия, и я посторонился, пропуская ее вперед.
Лючия прошла через маленькую гостиную на кухню и остановилась, глядя на пустую инвалидную коляску и раскрытый ноутбук на раздвижном столе. Кто-то когда-то прибрал грязную посуду — тарелки аккуратно стояли в сушилке, и остатков бутерброда, о которых упоминал Антонио, тоже не было.
Я подошел и обнял Лючию, она взяла меня за руку, я думал, что ее заинтересует компьютер — в его памяти, возможно, хранились файлы, которые были для нее частью личности, по чьей вине случилось… что?
— Ты хочешь, чтобы я сам посмотрел записи? — спросил я.
— Нет, — сказала она. — Ничего не трогай.
— Я бы хотел осмотреться. Понять, как…
— Ты же знаешь — как. Зачем тебе…
— Я должен объяснить твоему…
— Вериано все равно, его мотив интересует, а не… Ты знаешь мотив.
— Да, — сказал я. — Но если Джанни…
— Помолчи, пожалуйста.
Мы молчали, наверно, час. Может, больше. Что-то происходило, воздух в комнате то сгущался так, что становилось трудно дышать, будто проталкиваешь в легкие плотную массу, то, наоборот, разрежался, будто мы поднимались на вершину Джомолунгмы, и, казалось, легкие сейчас лопнут от напряжения, от попыток захватить побольше живительного кислорода. Впечатление было таким, будто дышало само пространство. На самом деле это было чисто психологическое, так я воспринимал смену эмоций у Лючии, а она переходила от блаженства к отчаянию, заново переживала свой роман, что-то, видимо, вспоминала, и я мог понять — что именно, но не хотел ей мешать. Просто стоял, держал Лючию за плечи, как мальчик, занявший первое место на конкурсе, где дети пытались объяснить взрослым, что они понимают под словом «любовь». Тот мальчик сел рядом с соседом, у которого умерла жена, держал старика за руку и молчал. А потом объяснил, что просто помогал соседу плакать, и это и есть любовь.
Я тоже — так мне казалось — помогал Лючии плакать, хотя ни одна слезинка за эти минуты (часы?) не выкатилась из ее глаз.
Возможно, мы стояли бы так до вечера или до завтрашнего утра. Раздались шаги, и в дверях кухни появился сержант Андреотти.
— Вы еще здесь? — сказал он. — Извините, я должен…
— Да, возьмите, — я протянул ему ключ.
— Что-нибудь узнали? — спросил он. На самом деле его не интересовало, нашел ли я следы, способные рассказать, каким образом инвалид сумел исчезнуть, оставив полиции и муниципалитету массу проблем.
— Да, — сказал я.
Пожалуй, мы действительно все узнали. Нам бы еще побыть здесь минут десять…
— Еще минут десять, если можно, — попросил я. — Потом мы уйдем, и вы сможете опечатать квартиру.
— Хорошо, — сказал сержант и вышел в гостиную, где заскрипел под тяжестью его тела старый диван.
— Лючия, — сказал я. А может, только подумал? Как бы то ни было, она меня услышала и подняла взгляд. В нем не было сейчас тоски, и сожаления в нем не было тоже, а только понимание, и значит, мы действительно могли уже уйти из этой квартиры, и из этого городка, и из этого мира… Я сказал об этом Лючии, и она кивнула. Путь у нас был один, и оставалось только объяснить синьору Лугетти…
— Мне поехать с тобой? — спросила Лючия. Или только подумала? Как бы то ни было, я ее услышал и ответил:
— Как хочешь. Но без тебя мы с ним лучше поймем друг друга.
Лючия кивнула.
— Поеду с тобой, — сказала она. — Без меня ты вообще ничего объяснить не сможешь.
Я промолчал. Лючия была права, хотя и говорила глупости.
Я подумал, что она захочет взять отсюда что-нибудь на память, и она взяла. Она постаралась сделать это незаметно, но я увидел — не то чтобы я внимательно следил за тем, что делала Лючия, но не увидеть это было невозможно, хотя, конечно, сержант, со скучающим видом сидевший на диване, ничего не заметил.
В воздухе над журнальным столиком сиротливо висели две мысли, они были чуть темнее воздуха, в котором парили, должно быть, минимум несколько месяцев — судя по их вялой, даже дряблой поверхности. Внешне мысли напоминали наполовину спущенные воздушные шары, Лючия коснулась их пальцами, проходя мимо, и обе мысли съежились, перетекли в ее память, я подумал, что надо будет по дороге спросить, но, с другой стороны, это могли быть интимные мысли, оставленные синьором Гатти специально для Лючии, и мне знать о них было совсем ни к чему.
Я поискал глазами, не осталось ли в квартире еще каких-нибудь мыслей, идей или хотя бы завалящих осколков воспоминаний, ничего не увидел и последовал за Лючией в прихожую, а сержант, потянувшись и внимательно осмотрев помещение — не взяли ли мы чего-то, — вышел следом и запер дверь.
Я взял Лючию под руку, мы спустились на улицу, где стало совсем жарко, даже слабый ветерок улегся отдохнуть, чтобы, может быть, к вечеру, набравшись послеполуденных сил, подняться и хоть что-нибудь сделать с этой тягучей, как патока, атмосферой.
— Джузеппе, — сказала Лючия, когда мы укрылись в машине, где сначала было совсем невмоготу, но я включил кондиционер, и уже через минуту стало вполне терпимо, — Джузеппе, я больше не могу здесь. Я думала…
— Ни о чем ты не думала, — отрезал я, выруливая на Римскую трассу. — Иначе не сделала бы этого!
— Джузеппе, — Лючия положила ладонь мне на колено, — я хотела вытащить тебя…
— Ты же понимала, что ничего не будешь помнить! — взорвался я.
— Да, — покорно согласилась она. — Но я думала, что найду тебя раньше…
— Раньше, чем это сделает Джеронимо? — сказал я, стараясь вложить в свои слова больше иронии.
Если Балцано объявится во время разговора с Вериано, — подумал я, — это будет кстати, вся компания окажется в сборе, и можно будет, как это любил делать незабвенный Эркюль Парот, посадить всех рядышком и, глядя каждому в глаза, рассказать — кто, когда, как… и главное, зачем. В конце концов, ради этого «зачем» синьор Лугетти меня и нанял.
Двадцать минут, пока мы плелись по перегруженным улицам Рима, я раздумывал над тем, мог ли Лугетти не обратиться ко мне со своим нелепым, как мне тогда показалось, вопросом. Не было у него на самом деле никакого выбора, и поступал он не как человек разумный, способный в любой ситуации увидеть минимум три и максимум бесконечное число неравновероятных возможностей. Нет, он вел себя именно как конечный автомат, запрограммированный на получение определенного результата — он-то думал иначе, да я и сам думал иначе, когда Лугетти впервые переступил порог моего кабинета. Однако, если знать не только начальные условия, но и граничные, и главное — знать результат, и если, к тому же, помнить, как все происходило на самом деле…