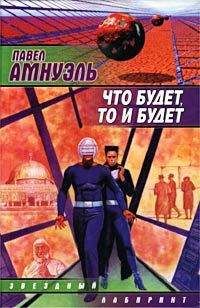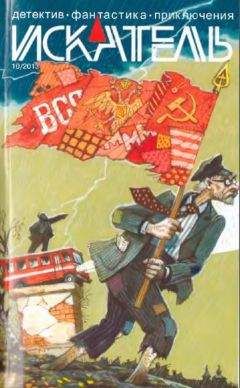— И потому, — перебил меня Лугетти, — на самом деле вы расследовали не мотив преступления, а пытались понять, каким образом оно было осуществлено!
Балцано, до сих пор молча куривший свою ужасную трубку, неожиданно произнес:
— П-фф… О чем вы, Лугетти? Мы все сейчас прекрасно знаем — кто, как, почему. Но ходим вокруг да около… Зачем?
— Затем, — вздохнул я, — что мне здесь хорошо. В этом мире, я имею в виду. Я здесь прожил замечательные годы…
— Лучшие, чем… — пыхнул трубкой Балцано.
Я подумал — недолго, всего лишь мгновение, но больше мне и не понадобилось, чтобы вспомнить бесконечные перевоплощения, бесчисленные возрождения и изменения, даже малейшую часть которых я не успел бы пережить здесь, в этом мире.
— Замечательные годы, — упрямо повторил я. — Уверен, Лючия со мной согласится.
Она подала мне руку, и мы сцепили пальцы. Лугетти отвернулся.
— Ну… — протянул Балцано и положил, наконец, на стол свою трубку. Я смотрел на нее — мне было интересно, что произойдет, когда Джеронимо о ней забудет, но то ли он о трубке не забывал никогда, то ли мои предположения оказались вздорными (все-таки я пока не так уж много вспомнил и понял о самом себе и о мироздании) — трубка лежала на краю стола, из нее вился слабый дымок, она не исчезла, и я вновь обратил внимание на продолжавшийся разговор.
Разговор?
Слова можно назвать разговором лишь в тех случаях, когда, произнесенные, они остаются лишь текстом, продуктом мысли, пригодным для интерпретаций, но если слова способны создавать и уничтожать миры, то разговор перестает быть средством общения, он становится военной кампанией, где могут убить, но могут и создать ровно с такой же вероятностью, о чем не следовало забывать, произнося то или иное слово или обдумывая ту или иную мысль.
— …И потому, — говорил Балцано, — поступок вашей супруги невозможно квалифицировать, как преступное деяние.
— А какое же еще? — дернулся Лугетти и бросил на нас с Лючией испепеляющий взгляд, наверняка создавший или разрушивший десяток-другой миров, о возникновении или гибели которых мы, понятно, никогда ничего не узнаем.
— Хорошо, — примирительно сказал Балцано, — давайте разберем произошедшее с самого начала. Вы прекрасно понимаете, Вериано, что на самом деле нужно понять мотив именно вашего поведения.
— Да, — сказал Лугетти, и плечи его поникли. — Вы правы. Именно моего. В отличие от вас всех, я здесь родился. И останусь здесь, когда вы… Я не хочу умирать. Мне плевать на это глупое и никчемное мироздание! Мне интересно, как все устроено, да, как все это возникло, интересно, я этому полжизни посвятил, я занимался теориями взаимовлияния сознания и пространства-времени… Но сейчас мне плевать — я хочу жить, вот и все. А если я правильно понимаю… если я действительно правильно… Если…
— Теория разрыва, вы хотите сказать, — вежливо продолжил Балцано прерванную мысль синьора Лугетти. — Если синьор Кампора и… гм… ваша супруга покинут этот созданный не вами мир, Вселенная может перестать существовать из-за разрыва… я не стану говорить об этих теориях, честно говоря, я в них ничего не понимаю, хотя и могу слово за словом… формулу за формулой… но не мое это дело, тут присутствует синьор Кампора, пусть он объяснит… хотя что объяснять? Да, вы правы в своих опасениях. Когда мы закончим разбирательство, нам придется… нет, почему нам? Я-то, собственно, почти посторонний…
Балцано пожал плечами и сунул в рот погасшую уже трубку. В ней сразу затеплился огонек, и плотное кольцо дыма поплыло вверх. Я проследил взглядом — мне почему-то показалось, что кольцо скроется в потолке и уже там, над крышей, рассеется в горячем римском воздухе. Конечно, этого не произошло — кольцо быстро потеряло очертания и повисло едва видимым облачком над головой Балцано.
— Послушайте, синьор Лугетти, — сказал я, — вы действительно верите, что именно желание синьоры Лючии создало…
— При чем здесь вера? — нахмурился Лугетти. — Я прекрасно понимаю, что все это… — он махнул рукой в сторону окна, — все это одна из множества эмуляций… я рассказывал вам о Точке «Зет»… Ситуация такова, что никто и никаким образом не может в эксперименте и с помощью наблюдений показать, доказать, убедить… живем ли мы в расширяющейся Вселенной, которая действительно возникла из сингулярности двадцать три миллиарда лет назад, или это эмуляция, повторение…
— А какая разница? — подал голос Балцано. — Вам-то не все равно?
— Какая разница? — нервно воскликнул Лугетти. — Ну, во-первых… Эмуляция… это как обрывок фильма… начинается в любой момент и в любой момент может закончиться. Вот сейчас… пф… — он щелкнул пальцами, и, естественно, ничего не произошло, — и все исчезнет, возникнет другая эмуляция, в которой буду я в возрасте… скажем, шестидесяти лет, и моя Лючия, постаревшая и…
— Память, — подсказал синьор Балцано.
— Конечно, — немедленно согласился Лугетти. — Прошлое хранится в памяти, да. Я буду помнить все, что якобы случилось со мной за эти шестьдесят лет, которые я не прожил… и со мной, и с миром, и вся его история… и экспонаты в музеях, и записи на дисках, и звезды в небе, которым миллиарды лет… это все память, да… всего лишь след на материальных носителях… Каждое мгновение мы выбираем себе эмуляцию, в которой проживем следующую секунду, до очередного выбора реальности. Но почему всякий раз мы выбираем реальность худшую, чем была прежде? Вы всякую секунду выбираете себе реальность, и когда вы в нее попадаете, то меняется и ваша память, и вы уже не помните той вселенной, в которой были секунду назад, но помните все, что якобы произошло с вами в новой эмуляции, возникшей с вашим в ней появлением.
— Остроумная теория, — кивнул Балцано. — Вы выбираете… ага… но ведь это вы выбираете, верно? А синьора Лючия в этот момент выбирает другую…
— Да! И оказывается в ней. А я — в той, что выбрал сам, и где…
— И где ваша жена спуталась, как вы считаете, с неким Гатти, которого в глаза не видела, а когда он исчез, она якобы выбрала эмуляцию, в которой произошел двадцать миллиардов лет назад Большой взрыв… а что, в вашей такого взрыва не было? И если выбираете вы, то почему вы обвиняете синьору Лючию? Она-то…
— Послушайте…
Лугетти торопился, ему нужно было выговориться, он хотел довести расследование до конца — не наше с Балцано, а собственное расследование, сугубо научное и, конечно, неверное, разве когда-нибудь научная теория оказывалась правильной? Такого не бывало, в любой теории есть слабые места, чего-то не объясняющие или что-то объясняющие не так, как происходит на самом деле…