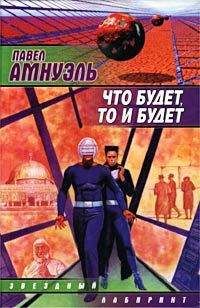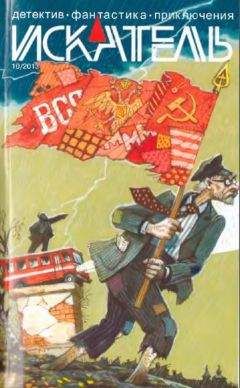— А скалу на Эдольфаре помнишь? — с интересом спросил Балцано.
Конечно. Не очень хорошо помнил, а минуту назад не помнил совсем, даже названия такого не знал, но стоило Балцано произнести слово… Эдольфар, да… Нависшая над бешено рвавшимися к берегу волнами дикая скала, угловатая, такое впечатление, что сейчас упадет, и ты вместе с ней, и тяжелая вода, которая на самом деле не вода, а раствор, химический состав которого я знал, конечно, но сейчас не мог вспомнить… пока не мог… Эдольфар… Это… Да, на третьей планете в системе Дельты Козерога, вот странно, почему там такое же название, как… Разве может быть, чтобы…
— Ах, оставь эти мелочи, — брюзгливо произнес Балцано. — Название… Ты вспоминаешь, вот что главное. И наш последний разговор — не здесь, в этом Риме, а в Риме, который…
В Риме, который…
Я вспомнил.
Мы плыли с ним в воздушном потоке над Колизеем — не развалиной, каким он стал здесь, а над не стареющим Колизеем, который никогда не был ареной для гладиаторских боев, лишь странная причуда моей памяти сделала его здесь…
— Да не твоей памяти, — досадливо сказал Балцано. — Неважно. Ты уже понял.
Понял, конечно. Мы могли уйти, мы с Лючией. И Балцано с его нарушенной пространственной ориентацией. Вериано уйти не мог.
— Что со всем этим произойдет? — повторил Лугетти, отвернувшись от окна. Смотрел он почему-то на меня, а ответа ждал от Балцано.
— А вы как думаете? — грубо осведомился тот.
Лугетти щелкнул пальцами.
— Вот так, — сказал он. — Думал, это сделала Лючия… а это я. Бред. Чушь. Когда я закрываю глаза или сплю… мир не исчезает… он живет… я просыпаюсь и узнаю, что в Гонкорде за это время трое заболели птичьим гриппом… в Японии землетрясение… в Мексике откопали старый город… президент Бух наложил вето на законопроект… в Москве мэр Луговойойтой дыры остался, скажеаружить с помощ возможен и обратный процесс: несколько частиц ь до сих пор, но без этого никакое запретил митинги… В Берлине хиппиголовые устроили…
Он бубнил и бубнил, доказывая самому себе, что мир объективен и не может зависеть от того, присутствует ли в нем наблюдатель по имени Вериано Лугетти, не солипсист же он, в конце концов, чтобы утверждать: "Если исчезну я, исчезнет Вселенная".
Конечно. Мир объективен, законы физики непреложны. Но скажите, синьор Лугетти, что происходит с электроном, когда наблюдатель фиксирует эту элементарную частицу в ходе эксперимента? Разве электрон не объективен? Разве он не присутствует с разной вероятностью в любой точке вашей вселенной? И когда он проходит, наконец, сквозь дифракционную решетку или что у вас там стоит у него на пути, и попадает на экран, оставляя яркую точку — подпись своего реального существования… Разве в этот момент вы сами, своим экспериментом, не отправляете в небытие сотни… миллионы… миллиарды триллионов миров, в которых электрон присутствовал совсем в другом месте, но вы его там не наблюдали, и эти вселенные перестали для вас существовать. Объективно, да. Вас это хоть сколько-нибудь занимало — вопрос о том, что становилось с теми вселенными, в которых вы, как наблюдатель, переставали быть?
Хиппиголовые — это не электроны, размазанные в пространстве волновой вероятности? И люди Бин-Зайдена, и международная космическая станция, и речь Буха, и поездка российского президента в Германию, и голод в Эритрии, и цунами на Бали, и стрельба в колледже в Алагаме, и ночной вор в деревушке Мальгамо, и… И еще, и еще — миллиарды, десятки миллиардов событий, крупных и ничего не значащих (для кого? Для вас? Для мироздания?), произошедших и происходящих сейчас, в это мгновение…
Да, это не электроны, но — какая, скажите, разница? Законы природы едины, верно? И в тот момент, когда вы наблюдаете что-то в своем мире, вы отправляете в небытие миллиарды миллиардов миров, где происходило что-то другое…
— Послушай, Джузеппе, — услышал я раздраженный голос Балцано, — не путай хоть ты его, пожалуйста! Какое небытие? О чем ты толкуешь?
Я и не предполагал, что, оказывается, говорил вслух. Или только думал? Я посмотрел на Лючию, она покачала головой — она не слышала моих слов, точнее, слышала совсем другие, которые я обращал в это время к ней: родная, любимая, хорошая, теперь мы никуда и никогда… нет, не так… как же «никуда», если отсюда нам придется уйти, и как же «никогда», если все меняется, и ты сама не знаешь, кого полюбишь завтра? Да, ты готова была ради меня взорвать вселенную, но…
— …авария в Европейском тоннеле, — продолжал бормотать Лугетти, — в Глазго арестовали двух химиков по подозрению в терроризме, в Варшаве прошла демонстрация против размещения американских войск, в квартале от площади Кампо нищий покончил с собой, бросившись под колеса автобуса…
Он никак не мог смириться.
— Лючия, — попросил я, — скажи ему.
Она сказала. Подошла к мужу и влепила ему звучную пощечину, от которой голова Лугетти дернулась, и он замолчал на полуслове.
Мы ждали. Лючия стояла, опустив руки, я не видел ее лица, но знал, что она плачет. Я мог бы… Нет. Я ничего не мог. Или не хотел. Или не должен был. Все равно.
— Да, — сказал, наконец, Лугетти. — Ты права. Как это называется в уголовном праве? Ошибка в объекте?
— Ошибка в объекте, — подал голос Балцано, — это, насколько я успел понять, когда убивают не того, кого собирались. Вы хотите сказать…
— Вы правы… Не в объекте. В подозреваемом. Я подозревал Лючию, а на самом деле это я… И это мой мотив должен был расследовать синьор Кампора. И это из-за меня вчера на площади Родины водитель задавил маленькую девочку…
— Ну вот, — грустно сказал Балцано, — обычная история. Всегда одно и то же. Всякий раз они или вовсе не думают об ответственности или берут всю ответственность на себя…
— Да, — согласился я. — Только не говори «они». Говори "мы".
Балцано поднял на меня укоризненный взгляд, поднялся, развеял ладонью клубившийся вокруг него дым, положил трубку на салфетку, отчего бумага обуглилась, и в комнате запахло паленым.
— Прошу прощения, — сказал он, — я, пожалуй, пойду.
И пошел. Мимо двери, разумеется. В стену.
Лугетти достал из бокового кармана чековую книжку.
— Сколько я вам еще должен? — спросил он, стараясь, чтобы голос звучал деловито.
— Ничего, — сказал я. — Я не сделал того, что обещал.
— Почему? Я знаю теперь мотив. Моя жена Лючия создала эту эмуляцию, потому что была влюблена в этого компьютерного… как его… а он ушел, бросил ее…
— Вы космолог, — мягко напомнил я, — вы пишете уравнения движения и создания… Подумайте сами. Если бы все было так, как вы говорите, то Лючия создала бы другую эмуляцию, верно? Ту, в которой синьор Гатти остался жив. Так?