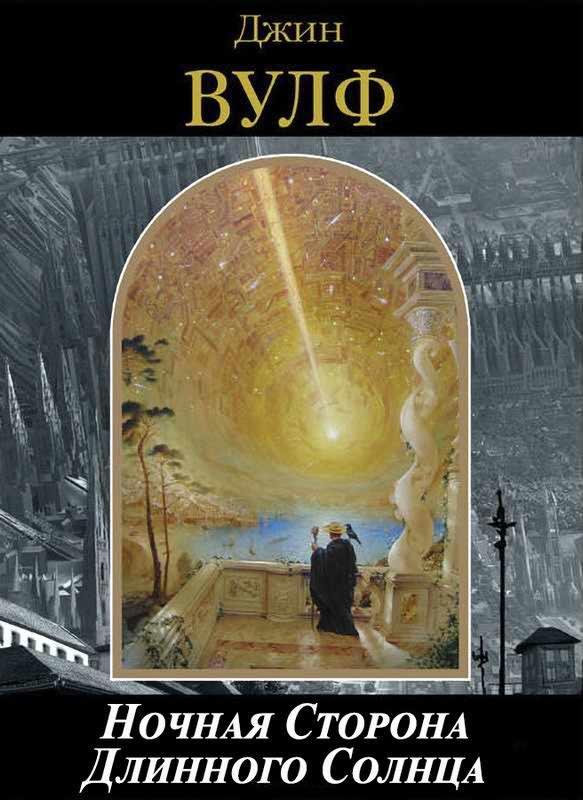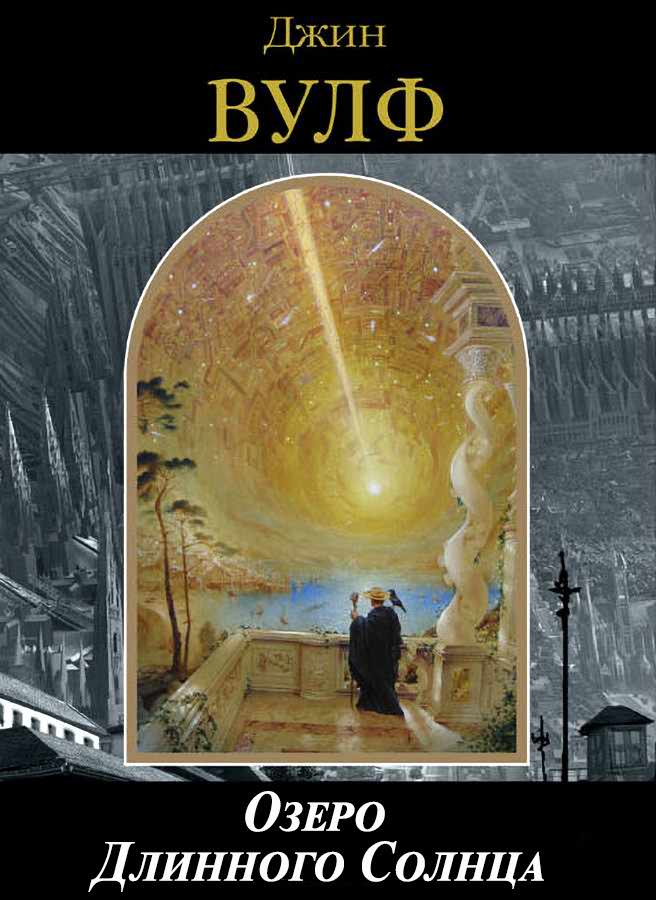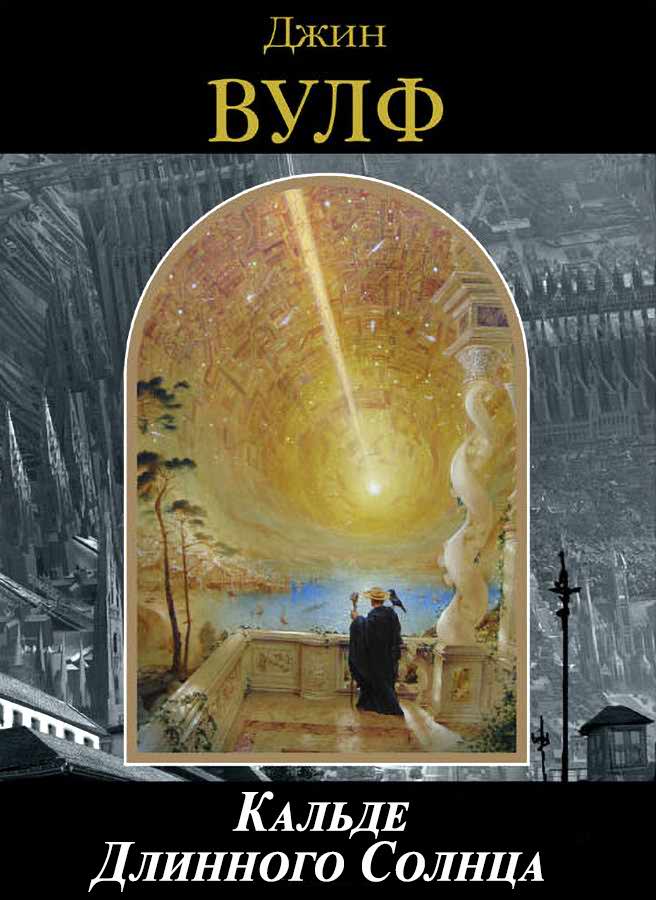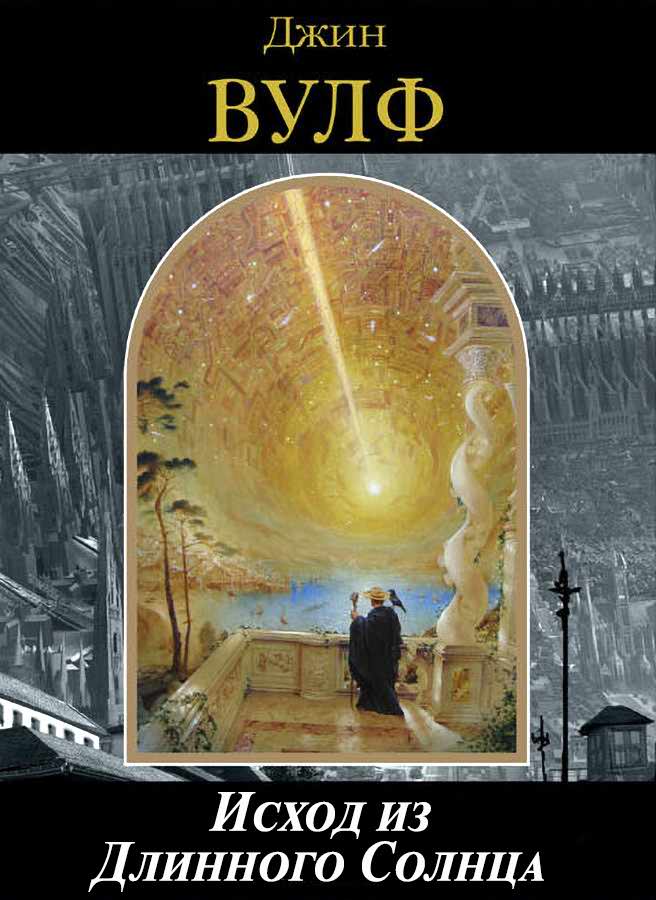и равнины, джунгли и сухие кустарники, саванна и пампасы. Игрушка сотен бесполезных ветров, сильно избитый, но живой, он плыл над всеми ними, ошеломленный высотой и скоростью; грозовое облако слегка подтолкнуло его плечи, одинокий летун в шести десятках лиг под ним промчался как гигантская стрекоза с кружевными крыльями.
Черная стрекоза, исчезнувшая в еще более черном облаке, в далеких голосах и запахе падали…
Шелк задохнулся в собственной рвоте и сплюнул; ужас, поднимавшийся от крутящейся сцены, вцепился в него, как сокол, его ледяные когти впились в его тело. Он моргнул, и в этот единственный миг весь виток перевернулся, как поваленная ветром корзина или брошенный волной бочонок. Дрейфующие небоземли оказались вверху, а твердая неровная поверхность, на которой он лежал, внизу. Голова пульсировала и кружилась, рука и обе ноги горели.
Он сел.
Рот был полон мокрой противной слизи, черная сутана полиняла и ужасно воняла. Он неловко обтерся онемевшими руками, вытер их о сутану и опять сплюнул. Серый камень зубца впился в его левое плечо. Птицу, с которой он сражался, «белоголового», о котором его предупреждала Мукор, нигде не было видно.
Или возможно, подумал он, эта ужасная птица ему померещилась. Он встал, покачнулся и упал на колени.
Глаза закрылись сами собой. Он видел все это во сне, его измученное сознание корчилось среди ночных кошмаров — ужасная птица, рогатые твари с обжигающими взглядами, несчастная сумасшедшая девушка, его черная веревка, опять и опять безрассудно тянущаяся к новым высотам, молчаливый лес, здоровенный грабитель с нанятыми ослами и мертвый человек, распростертый под низко висящим раскачивающимся лампионом. Но он проснулся, наконец-то проснулся, и ночь прошла — проснулся и стоит на коленях в собственной кровати на Солнечной улице. Сейчас тенеподъем и сегодня сфингсдень; он уже должен петь утреннюю молитву Пронзающей Сфингс.
— О, божественная леди мечей, собирающихся армий, сабель…
Его тошнило, он упал вперед, руки уперлись в теплые округлые черепицы.
Во второй раз он поступит умнее и не будет пытаться вставать, пока не поймет, что сможет не упасть. Пока он, дрожа, лежал за зубцами, рассвет растаял и погас. Вокруг него опять сомкнулась ночь фэадня — бесконечная ночь, которая еще не кончилась и, может быть, не кончится никогда. Дождь, подумал он, может вымыть его и привести мысли в порядок, и он стал молиться о дожде, главным образом Фэа и Пасу, но и Сцилле тоже; он вспомнил, как много людей (лучших, чем он) подобно ему заклинали богов и по более важным причинам: сколько времени они молились, предлагая маленькие жертвы (все, что могли), умывая изображения Великого Паса во фруктовых садах рядом с умирающими деревьями и в полях посреди чахлой пшеницы?
Ни дождя, ни даже грома.
Издалека прилетели возбужденные голоса; он поймал имя Гиеракса, повторяемое опять и опять. Кто-то умер.
— Гиеракс, — ответил Перо неделю или две назад в палестре, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь, связанное со знакомым именем бога Смерти. — Гиеракс прямо посреди.
— Посреди сыновей Паса и Ехидны, Перо? Или всех их детей?
— Всей семьи, патера. В ней только два мальчика. — Перо тоже был одним из двух братьев. — Гиеракс и Тартар.
Перо боязливо ждал исправления, но он, патера Шелк, улыбнулся и кивнул.
— Тартар — самый старший, Гиеракс — самый младший, — продолжал ободренный Перо.
Указка майтеры коснулась ее пюпитра.
— Просто старший, Перо. И младший. Как ты уже сказал, их всего два.
— Гиеракс… — сказал кто-то далеко внизу по ту сторону зубчатой стены.
Шелк встал. Голова все еще пульсировала, ноги окостенели; но он чувствовал, что больше не будет рыгать. Дымовые трубы (сейчас они все выглядели одинаковыми) и манящий люк казались бесконечно далекими. Все еще ошеломленный и покачивающийся, он обеими руками обнял мерлон и выглянул за стену. Равнодушно, как будто у кого-то другого, он заметил, что из предплечья правой руки на серые камни сочится кровь.
Кубитов на сорок ниже трое мужчин и две женщины стояли кружком на террасе, глядя вниз на что-то. Шелк глядел по меньшей мере медленные полминуты, но так и не понял, на что. Пришла третья женщина, оттолкнула одного из них и тут же с отвращением отвернулась. Они все о чем-то говорили, пока не появился один из вооруженных охранников с лампой.
На серых плитах лежал белоголовый; сейчас он казался меньше, чем представлял себе Шелк, его неровные крылья были наполовину раскинуты, и длинная белая шея согнута под неестественным углом. Он его убил. Или, скорее, белоголовый убил себя.
Один из мужчин, стоявших вокруг мертвой птицы, посмотрел вверх, увидел Шелка, глядевшего на них, указал на него пальцем и крикнул что-то такое, чего Шелк не смог понять. Шелк помахал ему рукой («Слишком поздно», — со страхом подумал он), как будто был одним из слуг, и пошел вверх по крутому скату крыши.
Люк открылся в темный высокий чердак, который он уже мимоходом видел раньше, наполовину заполненный старой мебелью и расколотыми ящиками; повсюду висела паутина. Как только под его ногами приглушенно лязгнула первая железная ступенька, зажглись тусклые огоньки, и он едва не свалился со второй, когда они погасли. Очень многообещающее место, в котором можно спрятаться, но, без сомнения, его обыщут первым, если человек с террасы поднимет тревогу. Спустившись по винтовой лестнице, Шелк, с сожалением, отказался от этой идеи и быстро подошел к широкой деревянной лестнице, по которой сбежал на верхний этаж главного здания виллы.
Узкая, прикрытая гобеленом дверь привела его в широкий, роскошно обставленный коридор; недалеко от Шелка начиналась лестница с перилами, по которой плыли вверх культурные голоса. Толстый человек в строгом вечернем костюме сидел в обтянутом красным бархатом позолоченном кресле, стоящем в нескольких шагах от верхней площадки лестницы. Положив руки на стол из красного дерева, а голову на руки, он сладко спал; когда Шелк проходил мимо, толстяк негромко всхрапнул, дернулся, очнулся ото сна, непонимающе посмотрел на черную сутану Шелка и опять опустил голову на руки.
Покрытая толстым ковром широкая лестница неторопливо спускалась в роскошный зал приемов, в котором стояли пять мужчин, одетые как спящий толстяк, и оживленно разговаривали. Некоторые держали высокие бокалы, и никто не казался взволнованным. Недалеко от них зал заканчивался широкой двойной дверью, сейчас открытой; сама теплая осенняя ночь явилась на прием и, как небосвет, повисла в воздухе. Шелк решил, что, вне всяких сомнений, это и есть главный вход в виллу, а портик, который он изучал со стены, находится с другой стороны; и действительно, когда он обследовал сцену внизу, — не перегибаясь через балюстраду (достаточно того,