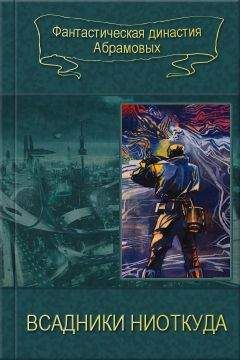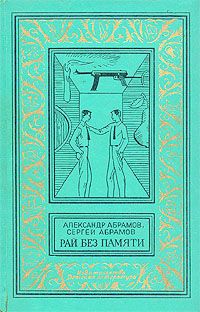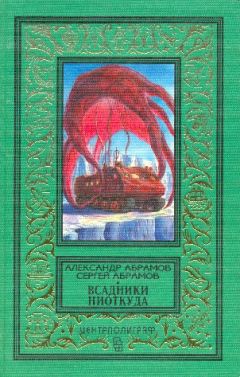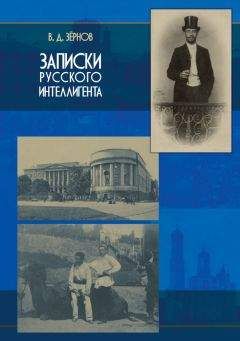— Как будто. А что случилось?
— Должно быть, бросили бомбу в машину. Где Зернов?
— Не знаю.
Я встал и снова обошёл остатки разбитой машины, пристально вглядываясь в трупы конвоиров. Зернова не было.
— Плохо, — сказал я, вернувшись. — Никаких следов.
— Ты кого-то разглядывал.
— Трупы охранников. У одного голову оторвало, у другого — ноги.
— Мы в кузове были и живы. Значит, и он жив. Ушёл, должно быть.
— Без нас? Чушь.
— Может быть, вернулся?
— Куда?
— В настоящую жизнь. С этой ведьмовской свадьбы. Вдруг ему повезло? А вдруг и нам повезёт?
Я тихо свистнул.
— Выберемся, — сказал Мартин, — поверь моему слову: выберемся.
— Тише! Слышишь?
Массивная дверь за нами протяжно скрипнула и открылась. Вырвавшийся сноп света тотчас же срезала тяжёлая дверная портьера. Стало опять темно, но в погасшей вспышке мне показалась фигура женщины в вечернем платье. Сейчас виднелась лишь её неясная тень. Из-за портьеры за дверью откуда-то издалека глухо доносилась музыка: играли популярный немецкий вальс.
Женщина, все ещё неразличимая в темноте, сошла по ступенькам подъезда. Теперь её отделяла от нас только ширина узкого тротуара. Мы продолжали сидеть.
— Что с вами? — спросила она. — Что-нибудь случилось?
— Ничего особенного, — ответил я, — только разорвало нашу машину.
— Вашу? — удивилась она.
— Ту, в которой мы ехали или нас везли, если быть точным.
— Кто ехал с вами?
— Кто мог ехать, по-вашему? — Меня уже раздражал этот допрос. — Конвоиры, разумеется.
— Только?
— Хотите собрать их по частям?
— Не сердитесь. Должен был ехать начальник гестапо.
— Кто? Ланге? — удивился я. — Он остался в гостинице.
— Так и должно было случиться, — сказала она задумчиво. — Так и тогда было. Только они подорвали пустую машину. А вы откуда? Неужели и вас придумал Этьен?
— Нас никто не придумал, мадам, — оборвал я её. — Мы здесь случайно и не по своей воле. Вы меня извините, я плохо говорю по-французски. Трудно объясниться. Может быть, вы знаете английский?
— Английский? — удивилась она. — Но каким образом…
— Этого я не смогу объяснить вам даже по-английски. К тому же я не англичанин.
— Алло, мэм, — перебил Мартин, — зато я из Штатов. Знаете песенку: «Янки Дудль был в аду… Говорит: „Прохлада!“» Уверяю вас, мэм, в этом аду жарче.
Она рассмеялась:
— Что же мне делать с вами?
— Я бы промочил горло, — сказал Мартин.
— Идите за мной. В раздевалке никого нет, а швейцара я отпустила. Вам везёт, мсье.
Мы прошли за ней в слабо освещённую раздевалку. Мне бросились в глаза немецкие военные плащи на вешалке и офицерские фуражки с высокими тульями. Сбоку находилась крохотная комната-чуланчик без окон, оклеенная страницами из киножурналов. Вмещала она только два стула и стол с толстой регистрационной книгой.
— У вас отель или ресторан? — спросил Мартин у женщины.
— Офицерское казино.
Я впервые взглянул ей в лицо и обмер. Даже не обмер, а онемел, остолбенел, превратился в подобие жены Лота. Она тотчас же насторожилась.
— Вы чему удивляетесь? Разве вы меня знаете?
Тут и Мартин сказал нечто. По-русски это прозвучало бы так: «Ну и ну… совсем интересно».
А я все молчал.
— Что всё это значит, мсье? — удивлённо спросила женщина.
— Ирина, — сказал я по-русски, — ничего не понимаю.
Почему Ирина здесь, в чужих снах, в платье сороковых годов?
— Боже мой, русский! — воскликнула она тоже по-русски.
— Как ты здесь очутилась?
— Ирэн — это моя подпольная кличка. Откуда вы её знаете?
— Я не знаю никакой подпольной клички. Я не знаю, что у тебя она есть. Я знаю только то, что час назад мы с тобой ужинали в отеле «Омон» в Париже.
— Тут какое-то недоразумение, — сказала она отчуждённо и холодно.
Я вскипел:
— Меня не узнала? Протри глаза.
— А кто вы такой?
Я не замечал ни этого «вы», ни платья сороковых годов, ни обстановки, воскрешённой чужими воспоминаниями.
— Кто-то из нас сошёл с ума. Мы же с тобой приехали из Москвы. Неужели ты и это забыла? — Я уже начал заикаться.
— Когда приехали?
— Вчера.
— В каком году?
Тут я просто замер с открытым ртом. Что я мог ей ответить, если она смогла это спросить?
— Не удивляйся, Юри, — шепнул сзади Мартин: он ничего не понял, но догадался о причине моей взволнованности. — Это не она. Это оборотень.
Она всё ещё смотрела отчуждённо то на меня, то на Мартина.
— Память будущего, — загадочно произнесла она. — Наверно, он думал об этом когда-нибудь. Может быть, даже встретил вас и её. Похожа на меня? И зовут Ирина? Странно.
— Почему? — не выдержал я.
— У меня была дочь Ирина. В сороковом ей было около года. Её увёз в Москву Осовец. Ещё до падения Парижа.
— Какой Осовец? Академик?
— Нет, просто учёный. Работал с Полем Ланжевеном.
Какая-то искорка вдруг прорезала тьму. Так иногда, ломая голову над, казалось, неразрешимой проблемой, вдруг видишь ещё смутный, неопределённый, но уже гипнотизирующий тебя проблеск решения.
— А вы и ваш муж?
— Муж уехал с посольством в Виши. Поехал позже, уже один. Остановился у какой-то придорожной фермы — вода в радиаторе выкипела или просто пить захотелось, не знаю. А дороги уже бомбили. Ну и все. Прямое попадание… — Она грустно улыбнулась, но всё-таки улыбнулась; видимо, уже привыкла. — Я потому так держусь, что меня именно такой воображает Этьен. На самом деле мне все это горше досталось.
Все совпадало. Осовец тогда ещё не был академиком, но уже работал с Ланжевеном — об этом я знал. Очевидно, он и воспитал Ирину. От него она узнала и о матери. И о сходстве, наверно. Только при чём здесь портье из отеля?
Я не удержался и спросил об этом. Она невесело засмеялась:
— А я ведь его воображение. Он, наверное, думает сейчас обо мне. Был влюблён в меня без памяти. И всё же предал.
Я вспомнил слова Ланге: «Он предал даже самую дорогую для него женщину, в которую был безнадёжно влюблён». Он так хотел предать! Значит, это было до нашей встречи с гестаповцами. Значит, у времени в этой жизни совсем другая система отсчёта. Оно перемешано, как карты в колоде.
— Может, вы проголодались? — вдруг спросила она совсем по-человечески.
— Я бы выпил чего-нибудь, — сказал Мартин, догадавшись, о чём идёт речь.
Она кивнула, чуть зажмурив глаза, совсем как Ирина, и улыбнулась. Даже улыбки у них были похожи.