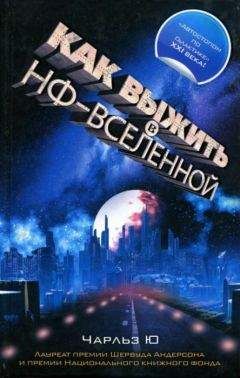Те двое встают друг от друга метрах в пятнадцати, противоположные полюса короткой оси «отец — сын», и отец принимается накидывать нетрудные верхние подачи. Мальчик размахивает битой, отбивая из шести-семи мячей один, да и те у него почти сразу падают на землю, но отец все равно бросается за каждым, как будто по-настоящему. Ему, конечно, удается немного подсластить пилюлю, но вообще он делает только хуже. Я-то пока не забыл, как паршиво себя при этом чувствуешь. Вот и парнишка совсем скис. Слабоват у него удар, даже для его возраста. Ему бы биту еще чуть-чуть полегче.
Но после трех дюжин подач и четырех-пяти слабеньких, отбитых вскользь мячей пареньку улыбается удача. Это понятно по звуку удара, как раз такому, как надо — «крак!». Прямо середкой биты. Он, по-моему, сам не поверил, что у него получилось. А я подумал — вот бы мне на его место, в его ось «отец — сын». Вот если бы это я сейчас отбил мяч.
Отец мальчика задирает голову, и не только он: все дети, все родители, замерев, следят за мячом, и даже руководитель группы рядом со мной провожает его глазами, а мяч летит над нашей площадкой и дальше, над соседней, перелетает ее всю и приземляется прямо в «доме». У парнишки руки как две макаронины, плеч, по сути, нет совсем, а удар получился метров под восемьдесят. Я видел это своими глазами и сейчас вижу снова, и все равно не верится.
Мой отец единственный не смотрел за мячом. Я заметил это не тогда, сейчас. Он так и стоит, не отрывая глаз от нашего злосчастного прототипа, в одной руке электронная лампа, другая поднята к голове. Судя по всему, он понимал, что шанс упущен безвозвратно. Руководитель группы оборачивается: пауза сыграла ему на руку, прервав томительное наблюдение за возней с аппаратом, он бормочет полуизвиняющимся тоном, что его ждут в офисе, наверное, как-нибудь в другой раз, в другой день. Он вежливо делает вид, что ничего особенного не произошло, — теперь я это вижу. Но и тогда я понял сразу: кому-кому, а мне, моей семье судьба уже не даст другого шанса. Мы миновали высшую точку своей параболы и теперь неслись, падали неизвестно куда.
Кризис разразился на следующий день. Несколько часов наедине с самим собой, чтобы окончательно осознать случившееся, осмыслить, лежа всю ночь без сна, вновь и вновь прокручивая ситуацию в голове, терзаясь извечным «что было бы, если». Это время понадобилось, чтобы боль разбила раковину отца, проникла в сердце, в душу, непоправимо повредила его внутренний компас и даже внешнюю, физическую оболочку. Утром он встал только в десять, невероятно для себя поздно, по субботам он обычно поднимался на четыре с половиной часа раньше. Мама еще прежде ушла в храм, и я все утро промучился, дожидаясь, пока отец выйдет из спальни, и гадая, как отразится на нем вчерашнее. Когда я увидел его, мне показалось, что за ночь он разом постарел на несколько лет. Он сразу направился в ванную, и долго оттуда не доносилось ни звука, потом включился душ и тоже очень надолго, потом снова длинная, томительная тишина. Был уже полдень, когда отец наконец появился в кухне. Он даже не взглянул на меня, не спросил, где мама. Мы просто сидели за столом и ели лапшу, оставленную для нас на плите. Отец свою сперва подогрел, но ел все равно с недовольным видом, словно она так и осталась холодной. Я спросил: может, он хочет супу, но отец не ответил. Поев, он поставил тарелку в раковину и двинулся в гараж. Я было подумал: «А вдруг?..» — и хотел уже бежать следом, но тут услышал звук поднимающейся створки ворот и громыхание выезжающей машины. Отца не было до ночи, вернулся он, когда я уже спал. На следующее утро он вышел на работу, и больше мы о случившемся не вспоминали.
из руководства «Как выжить в НФ-вселенной»:
Ряд недоказанных гипотез, считающихся, тем не менее, верными
Любой момент времени имеет некий размер, некую протяженность, которая может быть измерена. Период существования Вселенной, таким образом, состоит из конечного числа моментов времени.
Единого для всех глобального времени не существует.
Хроноповествование является теорией прошедшего, теорией сожаления. По сути, теорией ограниченности.
Такого выражения лица у МИВВИ я еще не видел.
— Что? — спрашиваю я.
— Не знаю. Твой отец — не знаю даже, как сказать.
— Все было сложнее, чем мне запомнилось. Не важно. Пора двигаться дальше.
— Что ты вообще собираешься ему сказать? Что ты скажешь, когда найдешь его?
После того дня на площадке все идет будто через силу, время становится рассогласованным. На самом деле началось это уже довольно давно, где-то с моих лет двенадцати, может быть, даже немного раньше, но тогда такие периоды длились всего несколько секунд, не знаю даже, замечала ли их, например, мама. Но скоро не замечать стало уже невозможно. Когда я перешел в старшую школу, отец уже регулярно выпадал из нашей реальности, его словно сносило в прошлое, минут на пять, а то и дольше. Мы не могли достучаться до него, мы говорили, но он не слышал нас. Он тоже говорил что-то, слова текли сквозь вязкое, тягучее пространство и доходили до нас не сразу, звукам и информации требовалось время, чтобы преодолеть напряженно-густой от молчания воздух, атмосферу, замедлявшую даже свет, препятствовавшую общению и пониманию. Все-таки услышав отца, мы отвечали, но он опять был где-то далеко, опять уплывал куда-то от нас. Мы пытались снова и снова поддержать контакт, придать хоть какой-то смысл разговору, хоть какой-то смысл этим осколкам дней, осколкам нашей общей жизни, они были всем, что оставалось у нас, у меня и мамы, в них было все, что оставалось от отца. Мы теряли его.
Хоть его попытка и потерпела крах, сама идея не была провальной. Позже — много позже — я узнал, что существовало еще несколько аналогичных проектов. Руководитель группы еще до нас успел встретиться с другим изобретателем, который жил совсем неподалеку, в получасе езды от нашего городка, на выдававшемся в море полуострове, куда мы с мамой иногда выбирались на пикник, если отец в выходные работал. Там стояли аккуратные коттеджи, крытые черепицей, и почтовые ящики тоже были с крышами и маленькими дверцами, а подъездные дорожки перед домом замыкались в круг — наверное, для удобства гостей. Еще там была небольшая площадка прямо на берегу, с качелями и такой штукой для малышни, по которой можно лазить, — в виде ракеты, из красиво изогнутых металлических трубок, раскрашенных в синий, белый и красный. Идея того человека практически полностью повторяла идею отца, разве что реализовал он ее немножко по-другому. Но главным было то, что его машина во время встречи с руководителем группы сработала. Тогда, в парке, нам с отцом представилась возможность стать частью общего проекта. С самой теорией руководитель группы уже ознакомился, знал, что она верна, и в еще одном неограненном бриллианте он не нуждался. Отцу, я знаю, было бы больно узнать обо всем этом, для него мучительным стало бы известие о том, что кому-то вроде него, такому же талантливому одиночке черт знает в какой глуши, который днем корпит за зарплату в офисе, а по вечерам творит у себя в гараже, удалось то, что не удалось ему. Его бы просто убило осознание того, что кто-то довел-таки дело до конца, что избранный путь был верным, что не стоило избавляться через неделю после того дня от всего своего труда, от всех разрозненных записей в блокнотах, в каталожных карточках, на клочках и обрывках бумаги, на сотнях страниц, на ярких стикерах, на книжных полях, на склеенных, сложенных, смятых, расправленных и снова смятых конвертах. Он был бы уничтожен, раздавлен, расскажи ему кто-нибудь, что наша мечта могла стать реальностью, но мы упустили, мы потеряли свой шанс, единственный, который дала нам судьба. И с ним наша идея, наш прототип были потеряны для истории. Отцу навсегда суждено остаться тем, кто оказался за бортом, кого поглотила, окутала собой, унесла в никуда пучина безвестности. Тем, кто затерялся во времени.