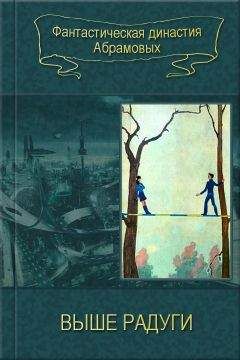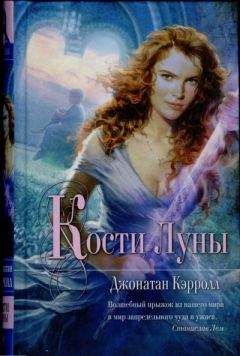Ведь он, а не Риос был решающим фактором эксперимента. И все-таки…
А пулемет все стучал, пытаясь достать отходящих всадников. Кто-то был еще жив и пытался спрятаться за трупами лошадей, кто-то полз назад, прикрываясь беспорядочным огнем из засады, но Смайли не щадил ни живых, ни мертвых. Пулемет стучал до тех пор, пока Рослов не потребовал прекратить огонь: патроны следовало беречь.
Пулемет смолк, но перестрелка продолжалась. Не частая и не точная, она не приносила вреда ни той, ни другой стороне, и Рослов уже собирался спуститься вниз, чтобы перераспределить огневые точки, как вдруг замер на месте, пораженный неожиданным зрелищем.
На каменной ограде у ворот появился епископ. Смешно размахивая руками, он двигался по гребню стены, как неумелый канатоходец, и полы его длинного клетчатого пиджака, над которым посмеивались партизаны Запаты, дружески принявшие в свою среду бродягу-американца, нелепо развевались на ветру. Развевался и белый платок в руке, которым он помахивал, балансируя на стене.
«Чего он хочет? — соображал Рослов. — Сейчас не время для пацифистских проповедей».
Но епископ думал иначе. Он сунул платок в карман и закричал торопливо и сбивчиво:
— Солдаты! Опомнитесь, что вы делаете? Что заставляет вас убивать друг друга? Ненависть? Злоба? Не верю, вздор! Откуда они у вас? Ведь вы все мексиканцы, братья по крови. У вас одна мать — ваша Мексика!
Рослов сразу понял: это говорил не американский журналист Грин, это взывал к современникам епископ Джонсон. Он продолжал свой спор с Рословым под чужим именем, в чужом обличье, но с упрямством человека, так и не разобравшегося в своих заблуждениях. Он был тоже решающим фактором эксперимента Селесты, но понимал этот эксперимент по-своему. Модель истории, ставшей для него действительностью, ничему его не научила.
Когда он умолк, переводя дыхание, все стихло. Как долго продолжалась тишина, Рослов не помнил. Секунду, две? Потом раздался выстрел. Он оказался метким, этот нетерпеливый солдат Уэрты, которому надоела смешная болтовня штатского человечка, неизвестно для чего взобравшегося на стену. «Шалтай-Болтай сидел на стене, Шалтай-Болтай свалился во сне», — вспомнились Рослову строчки из детских стихов. А Шалтай-Болтай на стене даже не понял, что с ним случилось. Просто согнулся пополам — и как в омут, головой вниз.
Дрогнуло ли сердце у Рослова? Нет. Ведь, что бы ни случилось, это только модель истории, выстроенная для эксперимента Селестой. Но что-то заставило Рослова рвануться вниз. И не что-то, а кто-то. Габриэль Риос, на мгновение, а может быть, и на минуты подавил сознание Рослова. Это Габриэль Риос побежал к лежащему у стены товарищу, и обогнали его, тяжело дыша, не Смайли и Шпагин, а Паскуале и Пасо, спешившие на помощь бедняге журналисту. Догнав их, Рослов увидел безжизненную фигурку в смешном клетчатом пиджаке, грустное восковое лицо и черную струйку крови на губах.
Шпагин — Пасо нагнулся над лежащим у стены человеком и сказал не по-шпагински сурово и жестко:
— Мертв.
15. ЭТОТ ПРЕКРАСНЫЙ, ПРЕКРАСНЫЙ, ПРЕКРАСНЫЙ ЮГ!
Спектакль был сыгран и занавес опущен. Шпагин поднялся и совсем по-шпагински застенчивым жестом вытер глаза. Но под ногами сверкал белый скат рифа и курчавилась вокруг барашками океанская синь. Епископ был жив и невредим и сидел перед ними вытянув ноги, в длинном пасторском сюртуке, и старательно поправлял опоясывающую воротничок черную ленту галстука. Клетчатый пиджак исчез вместе с его владельцем, и епископ недоуменно оглядывался, пытаясь понять, что же, в сущности, произошло.
— Ведь меня убили! — воскликнул он растерянно.
Смайли засмеялся и вместе со Шпагиным помог Джонсону встать.
— Не притворяйтесь, ваше преосвященство, — сказал Рослов, — вы отлично соображаете. Убили не вас, а беднягу газетчика Грина, неизвестно даже, существовавшего или нет. С помощью Селесты вы, конечно, открыли ему дорогу в рай. Едва ли он был мечтателем и не понимал грубой скороговорки винтовок. Эту выходку, закончившуюся для него столь печально, внушили ему несомненно вы. Вы дирижировали экспериментом и помогли Селесте понять сущность противоречий между буржуазным гуманизмом и революционной этикой. Не сомневаюсь в вашей искренности, но ошибки свои вы, наверно, уразумели. Или нет?
— Не знаю, — неуверенно произнес епископ: ему явно не хотелось спорить, да и мнимая его смерть все еще переполняла чувства. — Неужели все это было иллюзией? Слишком уж реально, совсем не иллюзорно. Я же помню: пуля попала вот сюда. — Он ткнул себя в левый бок, где из нагрудного кармана выглядывал уголок накрахмаленного платка. — Было совсем не больно. По крайней мере сначала. Будто ослепший жук ударился в грудь, а потом голова стала тяжелой и чужой, как после бессонной ночи, и только мелькнула угасающая мысль: «Это конец».
— Ох, епископ, — невесело усмехнулся Смайли, — сдается мне, что это далеко не конец.
Он оказался пророком. Новое перемещение произошло безболезненно и, пожалуй, даже буднично — не было ни страха, ни удивления, свойственных первым шагам в Неведомое. А оно началось на неширокой пыльной улочке маленького и, наверно, очень тихого провинциального городка. Они шли по этой немощеной улочке снова вчетвером и снова с винтовками, только более старыми, длинными, неуклюжими и тяжелыми — фунтов сто, не меньше, из каких не стреляли по крайней мере с середины прошлого века. И сюртуки на них были потертые, но элегантные, сшитые по столь же старинной моде. И вспученные цветной пеной галстуки оставляли открытыми грязноватые, но еще не потерявшие крахмальной твердости воротнички рубашек. Давно не чищенные сапоги их со сбитыми каблуками говорили о дальней дороге. И Шпагин так и не мог вспомнить, где он видел такие костюмы — в театре, или в кино, или где-нибудь за стеклом на музейных стендах. Но что осознал ясно и сразу — это то, что он только Шпагин, и никто другой. Его вытолкнули на сцену, не сказав, кого он должен играть, в какой пьесе, из какого времени, в комедии или драме. И что случится под занавес, он даже предугадать не мог: Селеста не стеснялся в выборе средств.
Шпагин никогда не был игроком и не любил рискованных ситуаций, а дар словесной импровизации не числился в реестре его достоинств. Он не умел, как Рослов, быть физиком с физиками и с лесорубами лесорубом. Он всегда был самим собой, только Шпагиным, биологом Шпагиным, и даже гордился своей профессиональной цельностью, которую некоторые называли ограниченностью. Но сейчас этой гордости не было. Быть только Шпагиным в этом дурацком маскарадном сюртуке и с этим стофунтовым ружьем за спиной ничего хорошего не предвещало. И ноющий холодок в желудке с каждым шагом сопровождал безответный вопрос: «Где мы?»