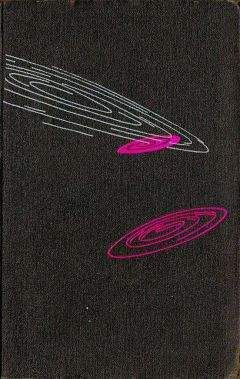Впрочем, справедливости ради, они не всегда жили вдвоем: случалось, приходили нуждающиеся, пригреваемые и отогреваемые Профессором, появлялись женщины, приводимые Фаустом, но через некоторое время уходили, часто без видимой внешней причины. Так побывал у них Юнец, замерзавший в сугробе, подобранный сердобольным стариком, так приблудилась к их очагу Кисочка. К женщинам Фауста Профессор относился спокойно, ровно, деля продукты на три или четыре части точно так же, как делил пополам. Только Кисочку он выделил из остальных, время от времени разговаривая с ней о чем-то простом и добром, понятном даже собаке, если бы таковая у них водилась. Цапу он принял сразу: засуетился, задвигал нелепо руками. Странно вздергивая обросший многодневной щетиной подбородок, сразу же предложил обедать.
— Будьте любезны, — придвинул ей единственный уцелевший стул, — позвольте осведомиться, как вас зовут?..
Фауст открыл рот, пораженный обилием вежливых слов, доступных Профессору. Но девушка принимала все, как должное.
— Не знаю. А разве это обязательно? Цапой, правда, иногда, — и стрельнула кокетливо глазом, отчего Фауст засомневался, что она не знает.
— Цапа? Хм… Цапа. Ну что за имя для молодой красивой девушки? Прежде так кошек называли, а вы ведь не вполне из этого семейства. Если вы позволите, я буду звать вас Маргаритой. Маргарита, а?!
— Слишком длинно, — прокомментировал Фауст, которого занимал этот обряд представления — знакомства-именования.
— Маргарита, можно — Марго. Раньше, очень давно, наряду с полным именем пользовались кратким, ласкательным. В отношениях с близкими людьми.
— А мне нравится — Маргарита. И Марго.
Ближе к вечеру к ним заглянул Юнец. Вид у него был важный и таинственный.
— Иду на войну, — небрежно заметил он, протягивая руку к огню, косо усмехнулся, — сделал рейд по глубоким тылам, есть оружие. Вот.
В руке его появился пистолет. Глаза Юнца светились торжеством.
— Там еще есть гранатомет и пара гранат к нему. Они у меня узнают, кто такой Авва…
— Эта штука похожа на ту, из которой Толстяк щелкнул оратора, — матовый отблеск металла притягивал взгляд Фауста.
— Ты заметил? — Юнец источал довольство. — Толстяка нет, а она осталась. И еще кое-что осталось.
— Ты бы меньше трепал, об отряде своем подумай.
— Отряд уже в берлоге Толстяка. У них все в порядке: у меня дисциплина.
— А вернется Толстяк?
— Не вернется. Уже не вернется. У Крохи рука твердая.
— Ну-ну, — сказал Фауст, чувствуя растерянность перед какой-то несуразностью происходящего.
Молчала Маргарита, а Профессор вдруг разволновался.
— Что ж мы так его провожаем? Как чужого, незнакомого. Человек на войну идет. Вы, — он повернулся К Юнцу, — мужественный и по-своему очень правильный. Это хорошо, что у вас есть вера. Пожалуйста, служите ей до конца. И постарайтесь вернуться живым и невредимым. Мы будем ждать вас.
— То-то, — сказал растроганный Юнец и ушел. Фауст лежал с открытыми глазами возле тлеющего костра и смотрел в черное небо, куда уходил, свиваясь, сизый дымок от поленьев. Ему пришло в голову, что возможно, не только дым, но все с этой земли уходит, отслужив, туда в черноту, в бесконечность. Придет момент, и туда же отправятся Профессор, Юнец и Маргарита, и он сам, все дело в сроках. Вспомнил про Соседку и почувствовал, что она тоже не спит, тоже смотрит в небо, пытается представить себе будущую жизнь с безногим ветераном и, конечно, воображает что-то светлое, доброе. Ему захотелось представить подобное для себя и Профессора. Ну например, как у них от Маргариты будет ребенок. И вот же ж интересно, как это — ребенок, новый человек? Даже не очень верится. А если получится, тогда его нужно будет учить жить к не убивать. Гермы мечтают о ребенке, чтобы сделать его солдатом, чтобы выплатить государству гражданский долг. Но ведь солдат — это профессиональный убийца, а где-то глубоко внутри еще и мародер, а он не хочет видеть своего сына убийцей.
Кто-то приближался крадучись. По шагам — ребенок или маленький человек. Фауст придвинул к себе самодельную пику, затаился. Это был один из отряда Юнца. Их можно легко отличить по одинаковой одежде, коротко стриженным волосам и черным повязкам на лбу. Приближаясь к костру, посланец намеренно толкнул несколько камешков, предупредив тем о своем приходе, потом натянул черную повязку на глаза.
— Вот, Авва передал, — оказал он Фаусту, глядя в сторону от огня, и протянул что-то в целлофановой упаковке, похожее на палку.
— А он сам?
— Ушел на войну. Он сказал, вы о нем еще услышите. Скоро.
— А это что?
— Не знаю. Авва передал. Можно есть.
Посланец Юнца исчез неслышно. Из убежища выглянул Профессор, воззрился недоверчиво на подарок.
— Бог ты мой, это же колбаса, настоящая копченая колбаса. Я уж думал, никогда не увижу такого. Марго, иди сюда, будет пир. Фауст, зови Гермов, пусть попробуют…
Ночь выдалась беспокойной: слишком тихой. Потом откуда-то издалека пошел гул, мощный, и ровный, но Фауст не был уверен, что это канонада. Возможно, это грохочет море, наступающее на город, думал он, иногда просыпаясь. Или начались новые землетрясения, как было раньше. Затем снова стало неестественно тихо. Уже под утро где-то рядом грохнули один за другим два взрыва.
— Тревожно, тишина, — поделился с Профессором Фауст замечанием, когда рассвело. — Как ты думаешь, может уже везде кончились заряды, и бомбы, и ракеты, и война тоже кончилась?
— Вряд ли, — ответил тот. — Похоже, воевать у нас в генах. Утверждали, будто человек стал человеком, когда взял в руку палку, чтобы убить животное, мне кажется, первой жертвой человека был другой человек, поскольку сознание убийства возможно при идентификации себя с другим существом. То есть прежде соотнести себя с объектом охоты, сравнить, а мерой может служить только он сам. Животные для проточеловека столь же неопределенная сущность, как река, камнепад, молния. Раньше даже наука такая существовала, история называлась, она хранила имена и подвиги самых выдающихся убийц.
— А с чего все началось у нас? — спросила Маргарита.
— Что? — не понял Профессор.
— Ну, война.
— Этого, наверное, никто уже не помнит и не знает достоверно. Кажется, с истребления стариков и старух, чтобы не было лишних ртов и хватало продуктов на живущих. Или, скорее всего, с уничтожения интеллигенции. Да-да, это вероятнее. Никакое правительство не признает своих ошибок и в первую очередь стремится избавиться от тех, кто понимает, что к чему. Кто видит ошибки. Потом нужно было вытравить память о прежней жизни, вычистили общество от стариков и старух. А когда памяти не осталось, все стало разваливаться само. Но, может, все было не так. Да и какая разница? Во все века человечество избавлялось от тех, кто отставал, и тех, кто уходил вперед. Приходило время, и многие понимали: не тех убирали, и законы, придуманные в оправдание этим акциям — ложные законы. И писали потомкам об этих ошибках, чтобы те их не повторяли. Зря писали: не потеряв, не узнаешь истинной цепы. Вот и росла цена от веку в век…