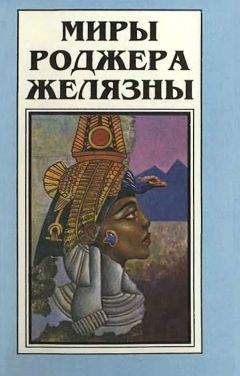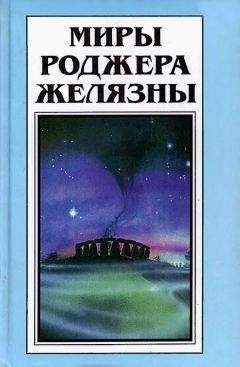— Хорошо.
Один-ноль в мою пользу!
Она повернулась к Бетти:
— Вы можете идти. Бетти пробормотала формальные фразы прощания, как-то странно, искоса взглянула на меня и исчезла. Она явно надеялась, что останется и будет „помогать” мне. Как и всем, ей хотелось примазаться к чужой славе. Но Шлиманом в этой Трое был я, и в отчете Научному обществу будет только одно имя!
М’Квийе встала, и я подумал, что она от этого ненамного стала выше. Впрочем, я со своими шестью футами шестью дюймами возвышаюсь над всеми и выгляжу как тополь в октябре: тощий и макушка ярко-красная.
— Наши летописи очень древние, — начала она. — Бетти говорит, что ваше слово, описывающее их возраст,-„тысячелетня”.
Я кивнул.
— Мне не терпится их увидеть.
— Они не здесь. Нам придется пройти в храм: выносить их нельзя.
Я насторожился.
— Вы не возражаете, если я буду снимать с них копии?
— Нет. Я вижу, что вы относитесь к ним с уважением, иначе ваше желание увидеть их не было бы столь велико.
— Отлично.
Похоже, это ее развеселило. Я поинтересовался, что тут смешного.
— Для чужеземца изучение Священного Языка может оказаться непростым делом.
И тут до меня дошло.
Никто из первой экспедиции не проникал так далеко. Я и не предполагал, что у марсиан два языка: классический и повседневный. Я немного знал их пракрит, теперь мне предстояло изучить весь их санскрит.
— Черт побери!
— Извините, не поняла.
— Это непереводимо, М’Квийе. Но представьте, что вам необходимо быстро выучить Священный Язык, и вы поймете мои чувства.
Это, похоже, снова ее развеселило, н мне было предложено разуться.
Она провела меня через альков...
...И мы попали в царство Византийского великолепия.
Ни один землянин не был в этой комнате, иначе бы я о ней знал. А ту грамматику и тот словарный запас, которыми я теперь владею, Картер, лингвист первой экспедиции, выучил с помощью некой Мэри Аллен, сидя по-турецки в прихожей,
Я с любопытством озирался по сторонам. Все говорило о существовании высокоразвитой, утонченной культуры. Видимо, нам придется полностью пересмотреть свои представления о марсианской культуре.
Во-первых, у этого зала был куполообразный свод и ниши; во-вторых, по бокам колонны с канелюрами; в-третьих... а, черт! Зал был просто шикарный. Сроду не придумаешь, глядя на обшарпанный фасад!
Я наклонился, чтобы рассмотреть золоченую филигрань церемониального столика, заваленного книгами. Мне показалось, что лицо М’Квийе приняло несколько самодовольное выражение при виде моей заинтересованности, но играть в покер я бы с ней не сел.
Большим пальцем ноги я водил по мозаичному полу.
— И весь ваш город помещается в одном здании?
— Да, он уходит далеко в глубь горы.
— Ну да, понятно, — сказал я, ничего не понимая.
Пока что рано было просить ее об экскурсии.
Я старался запечатлеть в памяти этот зал, зная, что рано или поздно все равно придется протащить сюда фотокамеру.
М’Квийе подошла к маленькой скамеечке, стоявшей возле стола.
— Ну что ж, попытаемся подружить вас со Священным Языком.
Я оторвал взгляд от статуэтки и энергично кивнул.
— Да, представьте нас друг другу, пожалуйста.
Прошло три недели. И теперь, стоило мне сжать веки, как букашки букв начинали мельтешить перед глазами. Стоило поднять взор на безоблачное небо, как оно покрывалось каллиграфической вязью. Во время работы я пил кофе литрами, а в перерывах глотал коктейли из бенцед-рина с шампанским.
М’Квийе давала мне уроки по два часа каждое утро, а иногда и по два часа вечером. Как только я набрал достаточно знаний для самостоятельной работы, я добавил к этому еще четырнадцать часов.
А по ночам лифт стремительно опускал меня на самые нижние этажи...
Мне снова шесть лет. Я изучаю иврит, греческий, латинский и арамейский. А вот мне десять, и тайком, урывками я пытаюсь читать „Илиаду”. Когда отец не грозил гееной огненной и не проповедовал братскую любовь, он заставлял меня зубрить „Слово Божье” в оригинале.
Господи! Существует так много оригиналов и столько Слов Божьих! Когда мне было двенадцать лет, я начал указывать отцу на некоторые разногласия между тем, что проповедует он, и что написано в Библии.
Форма его ответа не допускала возражений. Это было хуже, чем если бы он меня выпорол. После этого я помалкивал и учился ценить и понимать поэзию Ветхого Завета.
— Ты прости меня, Господи! Папочка, прости. Этого не может быть! Не может быть„.
В тот день, когда мальчик закончил школу с похвальными грамотами по французскому, немецкому, испанскому и латыни, папаша Гэлинджер сказал своему четырнадцатилетнему сыну-пугалу, что хочет видеть его священником. Я помню, как уклончиво ответил ему сын:
— Сэр, — сказал он, — я вообще-то хотел бы годик-другой сам позаниматься, а потом прослушать курс лекций по богословию в каком-нибудь гуманитарном университете. Вроде рано мне еще в семинарию, так вот сразу.
Глас Божий:
— Но ведь у тебя талант к языкам, сын мой. Ты сможешь проповедовать Слово Божье во всех землях вавилонских. Ты прирожденный миссионер. Ты говоришь, что еще молод, но время вихрем проносится мимо. Чем раньше ты начнешь, тем больше лет отдашь служению Господу.
Я не помню его лица. Никогда не помнил. Может быть, потому, что всегда боялся смотреть ему в глаза.
Спустя годы, когда он умер и лежал весь в черном среди цветов, окруженный плачущими прихожанами, среди молитв, покрасневших лиц, носовых платков, рук, похлопывающих меня по плечу, и утешителей со скорбными писями, я смотрел на него и не