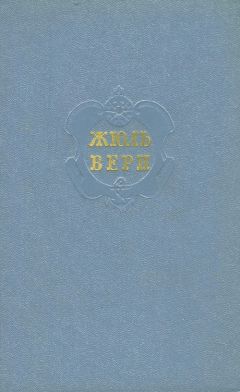И речку, и набережную из пластика, который под влиянием интенсивности света сам меняет цвета…
— Вы чем до войны занимались? — продолжаю этот необходимый, но уже самому неприятный допрос.
— В школе учился.
— А ордена вам за что дали?
— За войну, — грубо отрезает Михайлов. И я понимаю, что ему, фронтовику, неприятно говорить об этом с мальчишкой, который и фашиста-то живого в глаза не видел.
Лейтенант неприязненно смотрит на меня, резко выдыхая сразу из обеих ноздрей струи синего дыма. Смотрит и молчит.
Потом взгляд его смягчается, добреет. Видимо, он считает, что попросту я боюсь своего первого боя и потому сыплю дурацкие вопросы.
— Я тебе подарок сделаю, — говорит Михайлов, уже улыбаясь. — Небось все училище мечтал…
Из полевой сумки он достает вороненый парабеллум.
«Калибр — девять миллиметров, восемь патронов входит в обойму», услужливо подсказывает память.
— Держи. Обращаться-то умеешь?
Обращаться с немецким стрелковым оружием я умею.
И невольно краснею от радости, что у меня будет оружие, которое подарил боевой офицер второй мировой войны.
Да ведь мои коллеги прямо осатанеют от зависти.
— Тебе сколько лет? — спрашивает вдруг не спускавший с меня глаз лейтенант.
— Двадцать шесть, — не подумав, отвечаю правду.
— Ну, вот бы не сказал. А мне — двадцать два… Небось в институте учился, отсрочку давали?
Я киваю головой…
— Товарищ лейтенант! — просовывается в дверь часовой. — Возле леса, кажись, фрицы появились…
Я вскакиваю, дрожащими руками всовываю дареный пистолет в свою огромную кобуру. Всовываю, а он не лезет.
Михайлов быстро, поверх ремней и снаряжения натягивает шинель. Когда я вскакиваю на крыльцо, он стоит, широко расставив ноги, приставив к глазам бинокль. Потом протягивает бинокль мне:
— Гляди…
Из леса вытянулись и движутся к высоте три темные полоски. И прежде чем я успеваю сообразить, что это, лейтенант говорит:
— Объявляй тревогу…
Я вбегаю в комнату, где мы так уютно беседовали, и ору, чуть не срывая голосовые связки:
— Тревога! Тревога! По местам!
Многоногая рота, спящая под шинелями, мгновенно просыпается. Шинели слетают с голов. Расхватав оружие, моя рота вываливается наружу. На соломе остается красный матерчатый кисет и винтовочная обойма с четырьмя патронами…
Коротенькая цепочка моих солдат на снегу перед мельницей. Я вижу их спины, широко раскинутые ноги в обмотках, сапогах, валенках. Впереди голов короткие черточки стволы автоматов. Хищные силуэты пушек. Широко раскинув станины, они медленно ведут стволами за идущими прямо на нас гитлеровцами. В бинокль уже видно, как, проваливаясь по колено в снег, медленно, с опаской движутся вражеские солдаты.
Мы с Михайловым на мельнице. В ее кирпичном животе пробиты дыры, похожие на амбразуры. Из них открывается прекрасный обзор.
Немцы идут. Мои солдаты лежат. Михайлов молча смотрит в бинокль. Что делать? Я ведь командую ротой…
— Стрелять надо, — неуверенно говорю я.
— Зачем? — отзывается Михайлов. Он на минутку опускает бинокль. — Это идет разведка. Положить ее мы всегда успеем. Знать бы, сколько фрицев в лесу, да что у них на уме…
Михайлов улыбается, хотя я понимаю, что ему совсем невесело, он улыбается для меня.
— Не дрейфь, Володя, отобьемся. — И снова приникает к биноклю.
Не дойдя до мельницы примерно полкилометра, фашисты, которые прежде шли гуськом, друг за другом, разворачиваются в цепь. Так идти труднее, и немцы движутся медленнее. Я уже различаю глубоко надвинутые каски и блекло-зеленые шинели.
— Пора! — спокойно говорит Михайлов. — Давай огня…
— По наступающей пехоте противника! — кричу я, выскочив из мельницы. Пояс, прицел…
Мои солдаты открывают огонь, не дождавшись конца команды. Прицел им, очевидно, известен и без меня, а нервы тоже на пределе. Михайлов, схватив меня сзади за ремень, рывком втаскивает под укрытие толстых кирпичных стен.
— Ну чего выставился? — ругается лейтенант. — Черт шалавый… Из мельницы, что, голоса твоего не услышат?..
Раскатисто и глухо бьет станковый пулемет. Звонко, короткими прицельными очередями стреляют автоматы.
Немцы словно вжались в снег. Их почти незаметно. Однако больше половины лежит на виду неподвижно, в каких то страшно нелепых, неживых положениях. И я не могу оторвать от них взгляда. Я смотрю на людей, которых убили по моей команде.
А смотреть надо не на них. В стены мельницы тупо ударяют пули. Потом раздается короткий, леденящий душу нарастающий визг. Возле мельницы вырастает столб снежной пыли, дым, пронизанный изнутри огненной вспышкой, и град осколков барабанит в стены.
— Славяне, в укрытие! — кричит Михайлов.
Мгновенье — и мельница набита запыхавшимися солдатами. Одного втаскивают, на его неподвижных ногах налипшие комья снега. У другого сквозь лохмотья шинельного рукава зябко желтеет тело и виден пропитанный кровью, дымящийся на морозе рукав нательной рубахи.
А у мельницы, чередуясь через равные промежутки, повторяется визг летящей мины, короткий треск разрыва и злобно свистящий разлет осколков…
Так продолжается примерно полчаса. Вокруг мельницы больше нет белого снега. Он почернел от сгоревшей взрывчатки, разбросан взрывными волнами, иссечен осколками. Сквозь амбразуры видно, как стены курятся красной кирпичной пылью. Потом наступает тишина. Какая-то пустая и зловещая…
— По местам! — командует Михайлов.
И люди покорно выходят из-под укрытия толстых кирпичных стен. Выходят на воздух, который минуту назад был пронизан разъяренным, свистящим, разящим металлом.
И я смотрю на них с ужасом и восторгом. Ведь мне, уверенном в своей полной безопасности, и то страшно.
Страшно во время обстрела, когда хотелось сжаться в горошину, стать как можно меньше. Страшно сейчас, когда наступила эта продолжительная, ничего доброго не сулящая тишина.
А из леса выкатываются черные точки. И длинной цепью, захватывая нас в полукольцо, движутся вверх по склону.
А затем все повторяется. Наш огонь укладывает в снег вражескую цепь. Из леса раздается визг минометов. Солдаты собираются на мельницу… Затем снова команда: «По местам!».
Все повторяется. Только немецкая цепь все ближе, а солдат собирается в укрытие все меньше.
— Почему не стреляют пушки?! — кричу Михайлову.
— Рано! — отрезает лейтенант. Он по существу руководит боем. Осколок разрезал ему погон на левом плече, цыганские глаза напряженно сужены. Рано!..