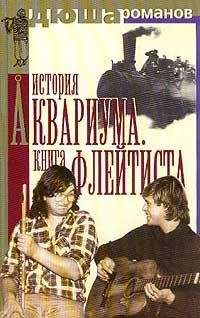Медик опешил:
— Вы должны сюда вот, — начал он пояснять, как ребенку, — сказать: «вмешательство разрешаю» и пальчик вот сюда приложить, для подтверждения.
Стас произнес заклинание в коробочку и приложил палец. Под строгим взглядом капитана Холопова врач опустил в саркофаг кончик силиконового капилляра. В него мигом вцепился зеркальный отросток, жадно вытянувшийся из амальгамной поверхности Стаса. Кожу под ней разом покрыли мурашки и начали мелко покалывать. Стас ощутил вдруг беззаботную легкость. Она подхватила ставшее невесомым тело, закружила в радужном хороводе и мягко опустила в перину сна.
* * *
Время за стеклами стерильной комнаты тянулось медленно. Казалось, барьерные фильтры задерживают даже нейтрины, и время внутри стеклянной клетки превращается в прозрачный кисель. Когда Стас поделился своими наблюдениями с профильным доктором, тот расхохотался. Добавил в список препаратов антидепрессанты и ноотропы и посоветовал обратиться за консультацией к геронтологам.
Те не могли нарадоваться успехам чудодейственной амальгамы в борьбе с «космической псевдопрогерией». Зеркальная поверхность, облепившая Стаса с ног до головы еще в Мурманской резервации, была не только защитным панцирем и мышечным каркасом. Она стала утробой, кормящей и лечащей, раз за разом модульно обновляющей клетки в бесконечных репарационных атаках, запускающей в его микрокосм корабли нанотеломеры.
Стас никогда не считал себя неучем, но с таким количеством новой информации ему было не справиться в одиночку. Так у его спасительной клетки появился часовой — «первый помощник по адаптации» Ефрем. Фамилии своей при знакомстве Ефрем не назвал, зато назвал индекс натуральности — девяносто три.
— Понятие «индекс натуральности», — тоном заправского лектора вещал Ефрем, когда Стас отказывался запускать видеоэнциклопедию, прячась за быстрой утомляемостью, — было введено на первой всемирной ассамблее в Гааге в две тысяча сто пятьдесят четвертом, он же первый от подавления Бунта. Тогда и был окончательно упразднен термин «человек» и замещен термином «землянин». Профессором Гюйцем был также предложен термин «пост-человек», но большинством голосов…
— Ближе к сути, — Стас любил перебивать своего вынужденного друга. Тот, как и большинство карьеристов от политики, страдал избыточной чванливостью.
— Индекс натуральности обратно пропорционален доле внесенных изменений в организм землянина в любом проявлении, будь то транспротезирование или генные модификации, и является универсальным показателем не только моральной и физической целостности, но и основополагающим фактором при перераспределении средств, ресурсов, льгот и социальных возможностей.
Все это на взгляд Стаса отдавало фашизмом, но мир за пределами его стерильной комнаты пришел к такому решению большой кровью.
— На той же ассамблее, — продолжал Ефрем, которому забраться на самую вершину социальной лестницы мешал глазной протез, — были сформулированы Постулаты Неприкосновенности, первым из которых является неприкосновенность тела. Второй — духа, с поправками о личном пространстве и свободе вероисповедания. Как вам, кстати, Станислав Андреич, христианский баннер? — спросил вдруг Ефрем.
Стас вспомнил голограмму, на которой он воздевал руки к небу и сиял белозубой улыбкой из-за постриженной клинышком бородки.
— Предлагаю заменить «по образу и подобию своему» на «моему», — съязвил Стас.
Ефрем снова набычился.
— Зря вы так несерьезно относитесь к предвыборной гонке! До окончания рассмотрения заявок на членство во Всемирную ассамблею Земли осталось три месяца! Известия о вас уже просочились в СМИ, и голоса религиозно настроенных…
— Я еще не давал согласия, — перебил Стас. — Глаголь давай дальше!
Стас понимал, что терпимость к его выходкам растет исключительно из желания Ефрема и дальше оставаться его «первым помощником», но ничего не мог с собой поделать. Задирать одноглазого карьериста было его единственным развлечением в удушающей одинаковости дней.
Хуже всего было по ночам. Ночью к Стасу приходили дурные мысли. Ночью на него обрушивалось одиночество и бессилие. В темноте стеклянной камеры, наедине с собой он отчетливо понимал, что не приемлет этот изменившийся мир, практически ненавидит его. И так же остро понимал невозможность что-либо изменить ни в мире, ни в себе. Одиночество и бессилие стискивали стальными пальцами сердце Стаса, сжимали горло.
После одной из таких удушливых ночей у обзорного окна стерильной комнаты появился Ефрем и вместо положенного «доброго утра» произнес:
— К вам почтальон.
Вошедший лейтенант фельдъегерской службы вытянулся во фрунт и отдал честь.
— Отчего такая важность? — вскинул бровь Стас.
Особый почтальон не понял иронии и, сдвинув брови, отчеканил:
— Индекс натуральности покойной составлял девяносто один процент! Такой показатель дает право использования федеральных ресурсов.
Сердце Стаса гулко бухнуло. Пока Ефрем расписывался в получении, пока конверт, покрытый круглыми печатями и треугольными штампами, скользил в щель лотка для стерилизации предметов, оно бухнуло двенадцать раз.
Дрожащими пальцами Стас оторвал картонный край уставного конверта госпочты и вытряхнул на ладонь прядь седых волос, заплетенную мелкой косичкой. Дыхание перехватило. К горлу подобрался предательский ком. Стас аккуратно вынул письмо. Пожелтевший и хрупкий клочок бумаги, испещренный неровным, колким, но таким знакомым и родным почерком.
«Милый мой, хороший мой, Стас. Если ты читаешь эти строки, значит, Господь услышал мои молитвы и вернул тебя. Значит, все годы ожидания, все ужасы, пережитые мною в последние месяцы, были не зря. Дни мои сочтены и, быть может, в другое время врачи смогли бы продлить их еще хоть ненадолго, но идет война, и нет больше никому дела до нужд и чаяний немощной старухи. Сказать по чести, у меня не осталось сил ждать тебя. Не осталось никакой возможности. Прости меня за это, хороший мой. Ты говорил, что оставишь меня надолго, но я не думала, что наша разлука затянется так сильно. Если ты читаешь эти строки, значит, я дождалась тебя. Вчера я подписала согласие на транспередачу сознания в Бехтеревском институте мозга. Я знаю, ты приложишь все усилия, чтобы вернуть меня как можно скорее, после такой долгой разлуки. Ну а если ты никогда не увидишь этого письма, значит, мы встретимся в лучшем мире, на небесах, где ты ждешь меня, зная уже, что я верно ждала тебя и молилась о твоем возвращении. Прощай и до встречи. До смертных дней твоя, Юля».