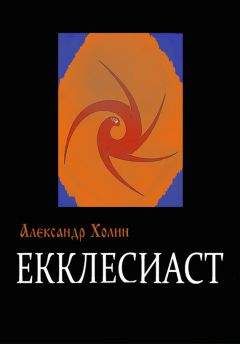Сегодня запрусь пораньше, снова «пляшущие тени на каминном экране» вдруг повезет. Попахивает свинством, но вдруг, повезет увидеть ее, Серафиму Даниловну, божественную Симочку.
Неукладывающийся образ — жил себе потихоньку добряк и аккуратист, почтенный учитель гимназии, добросовестно отрабатывая свое жалованье, в свободное время писал стихи, которые не вскоре, через десятки лет, заиграли иными красками и подтолкнули весьма заурядного (один на один — можно!) писателя создать его, скромного латиниста, биографию…
Да, так почему неукладывающийся? Кто и во что?
А все та же Симочка. Она, одним мизинцем вышвырнувшая Бориса Иннокентьевича из спокойной чиновной заводи в иной мир.
Скорее она, чем господин попечитель, скорее она…
Но не представляю! Не могу представить учителя Струйского влюбчивым, впадающим в неистовое мальчишество. Потому что не вижу ее. Как ни стараюсь, увидеть не могу.
А вдруг Сергей Степанович, мягколапчатый, в семи издательских водах полосканный, прав, и не стоит усложнять.
Эволюция — усложнение. Выучили эту истину, прониклись ею и усложняем, усложняем, усложняем… Скоро уже неудобно будет сказать: Он увидел Ее и полюбил с первого взгляда. Как так! А где психологический и сексуальный резонанс, где предшествующие разочарования и пустоты, где… Как будто за встречей двух симпатичных молодых людей не должно стоять естественное стремление узнать друг друга поближе.
Включаю портативную игрушку, и хрипловатый голос Володи заполняет комнату:
От простоты уходишь ввысь,
но небо зеркалом хрустальным
все отражает,
и устало
земля мне шепчет: сын, вернись!
Вернись…
Как будто есть возврат,
как будто с блудными сынами,
которых лик Иного манит,
ведется честная игра.
О игры неба и земли!
Мы рвемся ввысь, где воздух чище,
потом всю жизнь почву ищем,
где сквозь навоз произросли.
И остаемся посреди,
как атмосферные фантомы,
лишенные земного дома,
мир звезд нам души бередит.
Окалина с заблудших душ
спадает искрозвездным ливнем.
Мальчишка, милая наивность,
всю ночь в предстартовом бреду…
Любопытно, откуда это — «предстартовый», какими ветрами занесено к нему в строки?
Что он знал о тарелках, которые по несколько дней зависают над домом неверующего? Что означают эти «атмосферные фантомы»?
Наши устремления, застрявшие на полпути, нацеленные на беспредельность и не попавшие туда, ибо всякая реальность живет иссякающим импульсом, — так, что ли? Потом силовые поля обстоятельств — «и остаемся посреди»…
Кончаются дрова. Поэтому устрою символический огонек.
Ради ожидаемого броска.
А ведь я даже не посреди, я только слегка подпрыгнул и вот-вот по колени погружусь в ту самую усердно удобренную почву, удобренную душами нашими, экскрементированными той самой пеной страха…
7
Дорожка в парке, длинная, как английский сентиментальный роман.
— Ты труп, воплощение неподвижности, — кричит Борису Иннокентьевичу совсем юная дама, и ее милые черты искажаются полной гаммой негодования.
Я теряюсь. Подло, в конце концов, подглядывать семейные сцены, даже созданные собственным воображением, но могу поручиться — это живой парк, живая листва, живые одуванчики и одуванчиковая поземка, и посреди дорожки Борис Струйский того периода, который по его же записям считается наисчастливейшим.
Я где-то совсем рядом, в отличном кустообразном убежище. Следовало бы зажмуриться и заткнуть уши — не могу. Передо мной подлинная Симочка, одна из последних, а может, и единственная Беатриче в семейном варианте. Боготворимая Серафима Даниловна!
Борис Иннокентьевич ощутимо морщится, не знает куда деть себя, свой столь противный труп.
— Да, да, настоящий труп, — кричит Симочка и задыхается от крика, и криком заражается окружающее пространство, вибрируя совсем по-мюнховски, оно хлещет Струйского женским протестом.
В чем дело? Это не запрограммировано. Образ скандалящей среди парка Симочки — ни с чем не сравнимая чушь. Она — ровное светлое пятно в рукописи. И вдруг!
И совсем не вдруг.
Все дело в отказе, в отказе и в листовках. Примерно в это время Струйский не решился взять на хранение маленький чемоданчик с листовками. Вернее, заколебался.
«Тень набежала на наши отношения, — писал он, — дай Бог, мимолетная тень. Проклятый чемоданчик!»
Но он еще не ведал истинного размера проклятья.
Из донесения, подшитого к делу: «…отказался, но под давлением супруги, Серафимы Даниловны Струйской, урожденной Силиной, дал согласие, однако, вероятно, нехотя…»
И еще его запись: «Неужели я труп?»
Все это калейдоскопически стократно смешивается во мне, и вот — такая сцена в парке.
Струйский вздыхает, без особой надежды бросает взгляд на бессмысленную и безответную голубизну над кронами.
— Симочка, — говорит он устало, — это безумие. За Иваном наверняка следили…
— Ну и что? — взрывается Серафима Даниловна. — Ты не должен трусить!
До чего ж она хороша во гневе.
— Но думать-то я должен, — не слишком уверенно перебивает ее Борис Иннокентьевич.
— Ерунда! — наращивает она давление. — Это отговорки. На благородные поступки удобно глядеть со стороны. Неужели все твои высокие слова и мысли не превратятся в единственный настоящий поступок.
— Симочка, милая, — протестует Струйский, — это же поступок самоубийцы.
И берет ее за руку.
— Не прикасайся ко мне, — кричит она, — не смей! Теперь все, кому не лень, предают Ваню, и ты с ними заодно, а я думала…
И она разражается потоком слез или просто уходит от него быстрым шагом, почти бегом, — в общем, какая-то такая банальная концовка. Ничего лучшего мое воображение не подсказывает.
Слабо. Все это слабо — чего-то я не узрел. Не было ли в конце такого мельчайшего штриха, скажем, взгляда, жеста, вздоха, — что заставило его броситься в немыслимый вираж?
Однако ясно, что Симочкины вполне искренние, но, как говорится, не совместимые с текущим моментом переживания, переживания из-за брата ее, Ивана Даниловича Силина, — причина многих дальнейших событий.
Брат уже сидит под следствием, и дальнейшая его судьба почти никакими источниками не высвечена. Пресловутый чемоданчик с листовками, призывающими к низвержению эксплуататорского строя, блуждает где-то, и никто — пока никто! — не хочет приютить его.
Струйский все-таки приютит, возьмет этот чемоданчик, превосходно зная, что родственники в первую очередь попадут — наверняка уже попали! — под подозрение, возьмет и спрячет поэтически нелепо в своем кабинете среди рукописей и книг, едва ли не на самом видном месте.