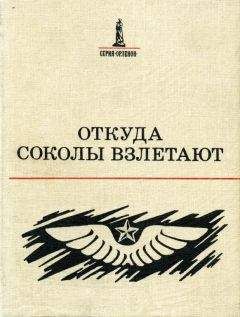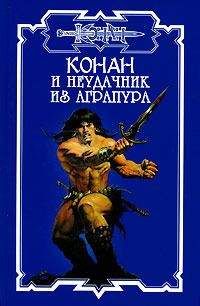— Фу ты! Эх и местечко! — сказал Берт.
Он был так огромен, таким мирным величием веяло от него, что обрушиться на него войной казалось чем-то столь же нелепым, как начать осаду Национальной галереи или, нарядившись в кольчугу, с секирой в руке, напасть на почтенную публику в ресторане гостиницы. Взятый вместе, он был столь велик, столь сложен, столь грациозно огромен, что начать против него военные действия было все равно, что ударить ломом по часовому механизму. И столь же далекими от злобной, тупой ярости войны казались и рыбоподобные воздушные корабли, косяком повисшие в небе, — невесомые и залитые солнцем. Курт, Смоллуейз и не знаю еще сколько людей, находившиеся на воздушных кораблях, вдруг ясно почувствовала несовместимость всего этого. Но романтические бредни туманили сознание принца Карла Альберта: он был завоевателем, и перед ним лежал неприятельский город; чем больше город, тем величественнее победа. Несомненно, в тот вечер он пережил момент великого торжества и ощутил всю сладость власти, как ее еще не ощущал никто.
И вот наступил конец антракта. Переговоры по беспроволочному телеграфу ни к чему не привели; и тут флот и город вспомнили, что они враги.
— Смотрите! — закричали в толпе. — Смотрите!
— Что это они делают?
— Что?..
Вниз, сквозь сумерки, нырнули пять атакующих кораблей — один к военной верфи, расположенной на Ист-Ривер, один к ратуше, два к небоскребам Уолл-стрита и Бродвея, один к Бруклинскому мосту. Отделившись от своих собратьев, они быстро и плавно миновали опасную зону обстрела и оказались под защитой городских зданий. При виде этого все автомобили на улицах остановились, как по мановению волшебной палочки, и огни города, которые начали было загораться, снова потухли. Это муниципалитет вернулся к жизни, соединился по телефону с Федеральным командованием и принимал меры к обороне. Муниципалитет требовал воздушные корабли: вопреки совету Вашингтона он отказывался сдаваться, и ратуша быстро становилась средоточием напряженной и лихорадочной деятельности. Повсюду полицейские начали поспешно разгонять толпы:
— Расходитесь по домам! В толпе зашептали:
— Дело скверно.
Холодок предчувствия пробежал по городу, и жители, спешившие в непривычной темноте через Муниципальный парк и Юнион-сквер, видели неясные тени солдат и пушек. Их останавливали часовые и отсылали назад. За какие-нибудь полчаса Нью-Йорк перешел от безмятежного заката и простодушного восхищения к тревожным и грозным сумеркам.
Первые человеческие жертвы были результатом паники и давки на Бруклинском мосту, возникших при приближении воздушного корабля.
После того, как движение на улицах прекратилось, на Нью-Йорк сошла необычная тишина, зловещие залпы бесполезных орудий, расставленных на прилегающих холмах, стали доноситься все ясней и ясней. Наконец смолкли и они. Это вновь начались переговоры. Люди сидели в темноте и тщетно крутили ручки онемевших телефонов. Потом в настороженной тишине раздался оглушительный грохот — это рухнул Бруклинский мост. Затрещали винтовки у военной верфи, заухали взрывы бомб на Уолл-стрите и около ратуши. Нью-Йорк не знал, что предпринять, он ничего не понимал. Нью-Йорк напрягал глаза в темноте и прислушивался к этим дальним звукам, пока они, наконец, не смолкли так же неожиданно, как возникли.
— Что происходит? — тщетно вопрошали люди.
Непонятное затишье тянулось довольно долго, и ньюйоркцы, выглядывавшие из окон верхних этажей, вдруг увидели, что темные громады немецких воздушных кораблей проплывают медленно и бесшумно совсем рядом с ними. Затем вновь зажглись электрические огни и на улицах раздались крики продавцов вечерних газет.
Огромное и пестрое население покупало эти газеты и узнало, что произошло: был бой, и Нью-Йорк поднял белый флаг…
Теперь, оглядываясь назад, мы видим, что прискорбные события, последовавшие за сдачей Нью-Йорка, были совершенно неизбежны — их породили, с одной стороны, противоречия между современной техникой и социальными условиями, сложившимися в эту научную эпоху, и традициями примитивного романтического патриотизма — с другой. Сначала ньюйоркцы восприняли факт капитуляции со спокойствием людей, от которых не зависит тот или иной поворот событий, совершенно так же восприняли бы они непредвиденную остановку своего поезда или возведение какого-нибудь памятника в родном городе.
— Мы сдались. Вот как! Да неужели? — Приблизительно такова была их реакция на первые сообщения.
Снова, как и при появлении воздушного флота, они чувствовали себя скорее зрителями. Только постепенно до их сознания дошло, что значит слово «капитуляция», и в них пробудился патриотизм. Только поразмыслив хорошенько, они поняли, что это касается лично их.
— Мы сдались, — можно было услышать немного погодя. — В нашем лице побеждена Америка. — И тут их душах начал разгораться гнев и стыд.
В газетах, вышедших около часа ночи, не было никаких подробностей относительно условий сдачи Нью-Йорка, не давалось в них никаких сведений и относительно короткой стычки, предшествовавшей капитуляции. Последующие выпуски восполнили этот пробел. В них был напечатан подробный отчет об обязательстве снабжать немецкие воздушные корабли провиантом, восполнить запасы взрывчатых веществ, затраченных в нью-йоркском бою и при разгроме Северо-Атлантического флота, уплатить колоссальную контрибуцию в размере сорока миллионов долларов и передать немцам весь флот, находившийся в Ист-Ривер. Появлялись также все более и более подробные описания того, как были разгромлены с воздуха ратуша и военные верфи, и постепенно ньюйоркцы поняли, что означали те короткие минуты оглушительных взрывов. Они читали о жертвах, разорванных на куски, о верных долгу солдатах, которые сражались в этой краткой битве без всякой надежды на успех, среди неописуемого разрушения, о флагах, спущенных плачущими людьми. В этих странных ночных выпусках появились также первые короткие телеграммы из Европы, сообщавшие о гибели флота — того самого Северо-Атлантического флота, которым Нью-Йорк всегда так гордился, о котором так заботился. Медленно, час за часом просыпалось общественное сознание, и вот постепенно чувство оскорбленной гордости и недоумения захлестнуло всех. Америка стояла перед лицом катастрофы. С неизъяснимым гневом, пришедшим на смену недоумению, Нью-Йорк сделал открытие: он был побежденным городом, где полновластно распоряжается победитель.
Нужно было только, чтобы люди поняли это, и тотчас же возмущение и протест, как пламя, охватили всех. «Нет! — воскликнул Нью-Йорк, пробуждаясь на рассвете. — Нет, меня не покорили. Это сон, и ничего больше!» Американцы никогда не отличались терпением, и не успел заняться день, как весь город пылал гневом, заразившим все миллионы его жителей. Гнев этот еще не успел вылиться в определенную форму, не успел воплотиться в дела, а на воздушных кораблях уже ощутили, как вздымается его волна, — так, по поверью, чувствуют домашние животные и дикие звери приближающееся землетрясение. Газеты синдиката Найпа первые облекли общие чувства словами, нашли нужную формулу. «Мы не согласны, — только и сказали они. — Нас предали!» Люди подхватывали эти слова, они передавались из уст в уста; на каждом перекрестке под фонарями, потускневшими в свете зари, беспрепятственно говорили речи ораторы, призывавшие дух Америки восстать, заставлявшие каждого осознать, что позор родного города — это его позор. Берту, находившемуся на высоте пятьсот футов, казалось, что город, из которого сначала доносился только беспорядочный шум, гудит теперь, как пчелиный улей — разъяренный улей.