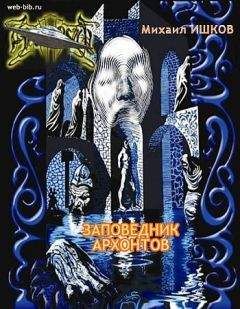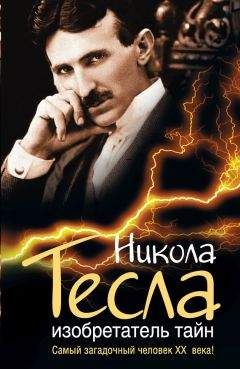— За то, что проворонили, каков ты есть гусь на самом деле.
— Каков же я гусь?
— С придурью, а хорохоришься так, словно провел год на дежурстве в безатмосферной дали.
— Послушай, брат, а это далеко, безатмосферная даль?
Он помедлил, потом буркнул.
— Отсюда не видать.
— Ты там случайно сны не видал?
Он невольно напрягся, можно сказать, набычился, глянул снизу вверх. Его пальцы непроизвольно сжались в кулаки. Я угрюмо глядел на него. Наконец он прочистил горло, пригладил бороду и также тихо прошептал.
— Видал. Еще хочу.
— Здесь, на Хорде?
— В атмосфере не получается, сплю, как полено. Нужна невесомость.
— Это как?
Он прокашлялся, глянул на море, на работающих матросов, на драящих палубу Тоота и Этту. На стражей, стоявших на часах возле кормовой надстройки, потом ответил.
— Тело становится легче перышка. Так и плывешь по воздуху.
Я недоверчиво глянул на него, отчаянно почесался — всласть, постанывая от удовольствия, потом спросил.
— Брат, ты ковчег видал?
— Видал.
— Ну, и как?
Он неожиданно замахнулся на меня и заорал грубо, с матерным довеском.
— Работать, падло!.. Чтобы ни одна ниточка не торчала!.. — и уже тише добавил. — Хрен дождешься, чтобы я из-за тебя, придурка, добровольно кандалы на себя надел!
Это был первый единственный громкий вскрик за все утро. Когда же в полдень опутанные цепью старцы в сопровождении заплаканной Дуэрни, Огуста, двух стражей, появились на палубе, на корабле стихли всякие разговоры. Даже матросы перестали перешептываться, только Тоот ободряюще подмигнул мне, плетущему канат, и продемонстрировал уже заметно увеличившуюся порозовевшую кисть. Этта тоже глянул в мою сторону, улыбнулся.
Дуэрни на коротком поводке подошла к борту, бросила взгляд в морскую даль. Там в легком розоватом тумане сиял непоседливый Таврис. Когда же из-за дуги горизонта глянул край Дауриса, девушка повернулась и в упор, настойчиво посмотрела на старцев. Те вжали удлиненные с широкими залысинами головы в плечи, разом почесались, переглянулись и натянули повод.
Девушка загрустила. Села в кресло рядом со мной, засмотрелась на море, потом попросила холодной воды. Первым на ее просьбу отозвался Этта. Он бросился в надстройку и тут же появился с бокалом на подносе. Приблизился к Дуэрни, поклонился. Тут же к креслу подскочил Огуст, взорлил, уперся истребляющим взглядом в парнишку. Затем укоризненно глянул на гарцуковну. Та надменно повела плечиком и нарочито вызывающе приняла бокал. Отпила, остальное вернула Этте и кивнула. Тот принялся отчаянно чесаться. Вслед за ним и матросы повеселели, принялись похлопывать друг друга по спинам, скрести плечи. Все заговорили, даже старцы оживились — заспорили о чем-то своем.
К моему удивлению, никто не собирался запрещать вечерние посиделки — наоборот, ближе к вечеру от старцев пришло указание, в котором мне предписывалось добровольно раскаяться и поведать о благом пути, которым должен следовать каждый добрый поселянин. При этом следовало вплести в сказку упоминание о плутающих в ночи прозрачных, так и норовящих сбить благонамеренного губошлепа с истинного пути, а также о победе добра над злом. Указание передал мне Огуст. Ин-ту и Ин-се сидели рядом, в двух шагах. Я было попытался выяснить подробнее, что именно имели в виду достопочтенные, упоминая об истинном пути, и на кого ликом похожи прозрачные, поэтому обратился к величествам напрямую.
— Если будет позволено получить дополнения к ценному указанию?..
— Позволено, негодяй, — откликнулся Ин-ту. — Спрашивай, но к нам не обращайся… Пусть волны откликнуться на твои вопросы, мачты проскрипят ответ.
Я удивленно глянул в их сторону, потом повел глазами по верхушкам мачт, задержал взгляд на вращающемся рупоре локатора, на параболической антенне. Главное — спокойствие, только спокойствие, твердил я про себя, однако этот фарс, знакомая, но каждый раз ошарашивающая простота поведения, свойственная разве что самым примитивным племенам, которые живут по своим неписаным правилам, которые не то что принять, понять невозможно, — порой ставили меня в тупик.
— О каком истинном пути следует вести речь?
— О бескорыстном служении ковчегу, паршивец.
— Имеется в виду добродетельная жизнь, с помощью которой можно проторить дорогу к подвигу?
— Точно так, висельник.
— В таком случае позволено ли мне в качестве награды за праведную жизнь, за бескорыстное служение ковчегу, упомянуть о возможности узреть священный сосуд, вместилище ума, чести и совести нашей эпохи?
Старцы задумались. Вопрос был каверзный, его слышали все, кто находился на палубе. Всех в кандалы?.. Кто же будет управлять судном? С другой стороны, умолчать о награде для праведника, значит, сыграть на руку прозрачным, которые должны будут до икоты искушать почесываниями верного ковчегу человека.
— Позволено, — отозвался наконец Ин-се.
В тот вечер я рассказал губошлепам о двух земляках, проживавших у нас, в горной местности.
— Жили-были в соседнем поселении два мужика. Один был себе на уме, всякими правдами и неправдами добывал хлеб насущный, горазд был на обман, случалось, и не руку нечист. Жил богато… А другой, слышь, беднющий-пребеднющий, шел прямой дорогой, жил по правде, колотился день и ночь, все равно в дому крошки лишней не было, — я примолк на мгновение, задумался, повесил голову. — Эхма, если бы трудами праведными можно было отгрохать палаты каменные… Вот раз поспорили они, кому на свете легче живется — тому, кто все по правде творит, или кто ловчит да выгадывает. Договорились спрашивать у всякого встречного-поперечного, пусть люди их рассудят. А дорога им неблизкая выпала, шли-шли — криводушный всяко сумеет ко всем приладиться, везде его кормят, и хлебушек у него есть, а правдивый где водицы изопьет, где поработает, его за это накормят, а тот, знашь, криводушный все смеется над ним. Вот раз правдивый попросил хлебушка у криводушного-то: «Дай, слышь, мне кусочек!» — «А что я за него буду иметь?» — спрашивает криводушный. «Бери, что у меня есть», — говорит правдивый-от. «Давай глаз у тебя выколю!» — «Ну, выколи», — тот ему отвечает.
Выколол криводушный глаз правдивому…
— Вот гад! — не выдержал Этта. — А я думал, не решится.
— Как же, не решится!.. — высмеял паренька страж Туути. — Он же из прозрачных, чудак ты человек.
— Нет, — возразил я. — Криводушный из самых первых поселян, из рода портных.
— Ну, знахарь, — Туути отчаянно почесал живот. — Тогда я не знаю… Это как же подобных живодеров земля носит?