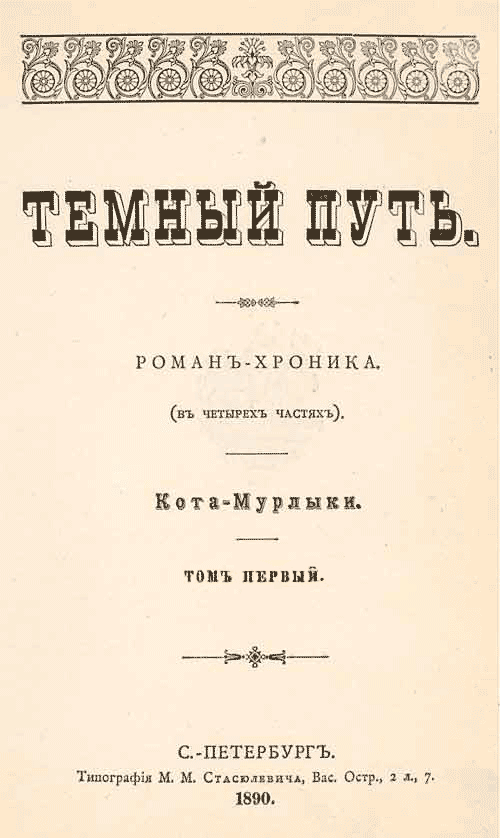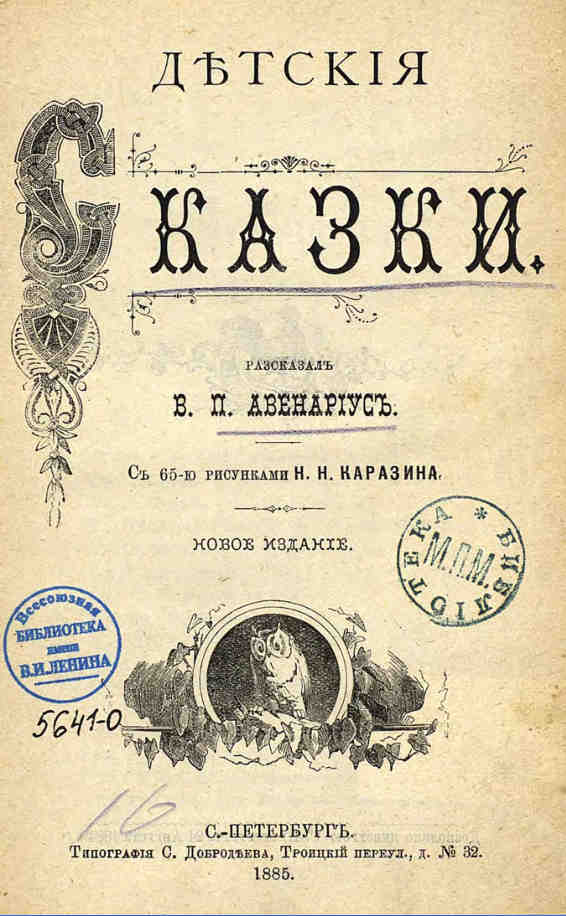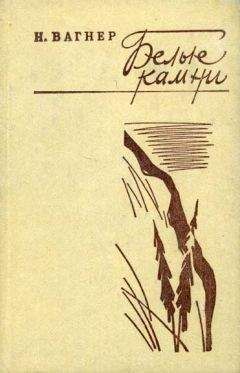темного вечера. Вдруг на ближайшей горе Кара-тау заблестели огоньки и захлопали выстрелы.
— Это старцы и дети надумались помогать своим вождям, — сказал Квашников. Пули чаще начали пролетать мимо наших ушей.
— Вот если бы у них были пушечки три, четыре… хотя бы трехфунтовых, то нам бы пришлось нехорошо. Но где им, горной дичи, иметь пушки, когда мы… мы… великие россияне… — Он не договорил. Солдат, стоявший подле него с банником и приготовившийся заряжать пушку, громко охнул, выронил банник и схватился обеими руками за плечо, из которого кровь била ключом.
— На перевязочный! — скомандовал Квашников, и другой солдат подхватил и повел раненого. Но только они подошли к краю стены, как пуля ударила ведшего в затылок, и он, опрокинувшись плашмя, остался на стене, а раненый полетел вниз.
— Заряжай, ребята, живей, живей! Живо, пли! — закричал Квашников.
— И чего они, с… дети, лезут сюда! — обратился он ко мне после выстрела. — Ведь здесь ворота замурованы… Смотрите!
И он указал на целую груду камней, которая лежала позади ворот.
— А если бы они, мухтанские олухи, догадались бы разбить северные ворота, то это бы они любехонько сотворили и ворвались бы, анафемы, непременно ворвались бы!
В это время налево от нас поднялось какое-то движение, какая-то суматоха, женский визг. Что-то несли белое… Что такое?
Оказалось, что в то время, когда неприятель наседал самым отчаянным образом на стену, вдруг явилась туда Ольга Семеновна, вся в белом, с распущенной косой и с крестом в руках. Красковский тотчас же схватил ее в охапку и спустил вниз.
После она объясняла нам мотивы своего появления:
— Вдохновлять, воодушевлять и встретить смерть в рядах храбрых, — говорила она.
— Просто у бабы закружилась голова, и она со страху на стену полезла, — объяснял при этом ее супруг.
Но только что Красковский успел препроводить в безопасное место Ольгу Семеновну, как раздались крики, и завязалась суматоха в самой крепости, позади нашей стены.
Около сарайчика на земле лежало что-то белое. Кругом столпились люди. Несколько фонарей освещали это белое.
В это время мимо нас пробежал Ленштуков.
— Убили! Совсем! — проговорил он.
— Кого убили?! — вскрикнул я, и мне тотчас же представилась Марья Александровна, бледная, убитая, лежащая на земле.
— Позвольте мне отлучиться, — вскричал я, обращаясь к Салматскому, но Салматский вместе с двумя товарищами был занят сталкиванием новой лестницы, которую приставил к стене неприятель.
Не дожидаясь ответа, я почти спрыгнул со стены и с замирающим сердцем бросился к толпе. Я растолкал ее.
На земле лежала наша «хохотушка».
Пуля ударила ей прямо в сердце. Кровь медленно текла из раны. Глаза были сжаты, брови высоко приподняты, полураскрытый рот улыбался. Она как будто хотела захохотать.
— Блаженная смерть! — кто-то проговорил из толпы.
— Господа! Господа! — заторопил Винкель. — Что же мы стоим?! К делу, к делу! Защитников мало! Бери, неси ее в лазарет, в мертвецкую!
Несколько пуль прожужжало мимо наших ушей.
— Позвольте! — вскричал я. — Да где же остальные?
— В хорошем, безопасном месте, под блиндажами, в погребе.
— А это что же?!
— А это вот… сумасшедшая Ольга Семеновна, сама вскочила и ее увлекла. Сама уцелела, а эта несчастная…
— А Марья Александровна где?
— Она в лазарете, на перевязочном. — И он махнул рукой и марш-марш отправился на свой пост.
Я тоже быстро пошел опять на стену, в ад кромешный, и опять кругом меня захлопали, загремели выстрелы, и опять нескончаемое: «Алла! Алла! Алла! Алла!»
Всю ночь до утра продолжалась эта отчаянная возня. Порой, на несколько десятков минут, на каких-нибудь полчаса она как будто затихала. Выстрелы почти прекращались. Неприятель не лез как бешенный на стены, и даже его фанатичное «Алла!» замолкало.
(Так замолкает надоедная боль в ране, и больной отдыхает на несколько минут до нового, более жестокого приступа.)
С нашей, восточной стороны, впрочем, нападение давно уже ослабело и наконец совсем затихало. Пушки, или, правильнее говоря, картечь, сделала свое дело и успокоила неугомонных.
Но эти неугомонные устроили из камней завалы и залегли шагах в 30 или 40 от стены.
На рассвете все кругом крепости успокоилось. Наступило полное затишье. К нам пришли Винкель, Красковский и еще несколько офицеров.
— Кажется, отхлынули, — сказал Красковский.
Салматский заглянул за край стены, около которой выдавался бастион.
— Ваше благородие, — проговорил он шепотом, — их здесь видимо-невидимо у самого бастиона. Во! во! во! Ровно тараканы… У-у сколько!
Я тоже выглянул из-за стены. Но в то же самое мгновение град пуль полетел в меня и что-то обожгло мне левую руку выше локтя.
Я схватился за рану, по руке струилась кровь.
— Ступайте скорее на перевязочной пункт, — вскричал Красковский.
Но я почти не чувствовал боли; вероятно, от сильного возбуждения.
— Нет! Зачем? — сказал я. — Перетяните мне только руку. — И я вынул и подал ему носовой платок.
Он добросовестно перевязал мне рану, затем вынул свой платок и хотел подвязать мне руку.
Я было воспротивился ввиду того, что и сам он может быть ранен, и платок может понадобиться.
— Да у меня их целых три… Я ведь учен и запаслив.
Квашников также заглядывал вниз за края стены, и хотя каждый раз на него сыпались пули, но ни одна не задела его.
— Тут надо ручными гранатами, — сказал он в раздумье. — Их ничем другим не выбьешь. Пойти опять к вашей дряхлой артиллерии просить гранат, — сказал он со вздохом.
И он отправился к Глушкову.
С нашей «дряхлой» артиллерией, то есть с подполковником Глушковым, произошла у него жаркая стычка.
— Я его убеждаю, — рассказывал потом Квашников, — что без гранат ничего не поделаешь, а он вдруг говорит: у нас партия только что получена новых гранат… еще не пробованы. — Так дайте, мол, их сюда, мы их попробуем! — Вы, говорит, молодой человек, в деле еще неопытны. Предоставьте судить людям более сведущим. — Ну! Тут уж я обозлился… Подступил, знаете ли, к нему и по-российски… видишь, говорю, это? И показал ему кулак. Если, говорю, ты, такой-сякой, не отпустишь сейчас гранат, так я тебя по-черкесски!
— И что же?
— Вон, видите, несут!
И вдали действительно показалось несколько человек солдат, которые несли на носилках кучки гранат.
Квашников отрезал кусок пальника, зажег его у фитиля и начал ждать.
Когда прибыли гранаты, он схватил одну, зажег фитиль и начал его раздувать. Когда фитиль достаточно разгорелся, он, разбежавшись, с размаху кинул гранату за угол бастиона.
Грохнул выстрел с каким-то особенным, сухим треском, и тотчас вслед за ним раздались стоны, крики, и черкесы