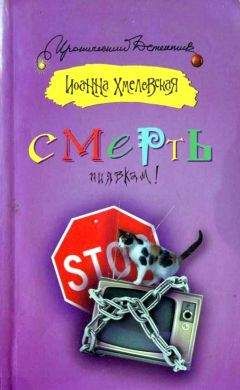- Нет! - закричал Наргес.- Ты лжешь, негодяй.
Хадж вынул из кобуры плазмер.
- Нет! - Наргес сорвался на визг.
Капитан с трудом подошел к Болту, опустился на колени и протянул ему оружие.
- Если станет чересчур тяжело...
И впился глазами в лицо Цесариума.
Розовый горбун, всхлипывая, полз к креслу Болта. Но дыра уже вмешалась - его потащило к стене, где стоял на коленях Варгес.
В руке у гвардейца тускло светился ствол.
- Меня,- простонал Наргес. И лег. Варгес кивнул, ткнул плазмер наугад и выстрелил. Наргес застыл. Гвардеец повернул голову к Салиме, сунул ствол в рот и нажал на спуск.
Дочь Цесариума этого не видела. Она смотрела на отца. У нее хватило сил подползти поближе, дотянуться до его колен. Он вытянул правую руку, положил ее на голову Салимы. Губы Цесариума искривились. Что это - улыбка? Гримаса боли? Или просто черная дыра уже лепила лица своих жертв по своему вкусу?
До свидания.
Твой Андрей
ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ
3-е июня, Москва
Тут был случай необычный. Необычный был и приговор.
Постановили: извлечь его из мраморного склепа, неспешно все ему рассказать, все показать. Унижение и тихо-загадочную смерть его вдовы; растоптанное, убитое крестьянство; звездный час иудыпрокурора - того самого, что охотился за ним летом семнадцатого; показать в подробностях, с костями в колесе, тридцать седьмой; войну, вымерший от боли и голода Питер - блестящую некогда столицу империи; взорванные храмы, разоренные музеи и библиотеки, кастрированное искусство; безумных от страха интеллектуалов - безродных космополитов, ошельмованных врачей; отравителей, отравителей, отравленных, отравленных - и так дальше, дальше, дальше - до геройских звезд социалистического бая Адылова и магазинных прилавков конца восьмидесятых...
Этот человек не стоял в общей группе. Был какое-то время с нею, но и тогда как бы поодаль. Точнее сказать, был в ней одинок. А потом он пошел по кремнистой дороге, отблескивающей лунным оловом, и шел долго, бесконечно долго. Иногда он останавливался, что-то будто бормотал. И когда камера подлетала близко, слышался страстный и гневный, грозный и горький его голос. И еще было видно, что костюм-тройка сидел на нем превосходно, хотя внимательный взор обнаружил бы, что костюм этот изрядно поношен.
- Вы хотите судить меня? - говорил человек.- Пожалуйста. Я никогда не был против. Сейчас тем более. Я казню себя куда страшнее. Я оказался плохим садовником. Я нес щепоть замечательных семян, и мне казалось, что передо мною бескрайнее и доброе поле. Но поле это было беременно сорняками, сорняками страшными. Насилия, низкой зависти, холопского пресмыкания перед хозяином. А я сыпал щепотку нежного зерна и надеялся взрастить невиданный сад доброты и гармонии. И думал, что ради этой высокой цели собственную доброту я могу и даже должен на время урезать. И потому вместе с зернами я сыпал (глаза его гневно сузились) пиретрум, этот яд, дабы вытравить сорняки, извести насекомых. Кого-то этот яд уничтожил, да вслед такие рыла полезли... Чувствительной к яду оказалась именно старая культура. А ее место заняло нечто чудовищное! Сего не предвидел. В этом виноват. Отпустите мое тело. Отдайте его земле. Я не хочу лежать на площади в холодном мраморном доме.
Видимо, я ошибся. Хорошо помню, как Федор Дан говорил страстно, будто творил молитву: "Господи Боже мой, быть может, ты освободишь нас от этого человека, спасешь российскую социалдемократию! Этот человек идет один против всех. И мы бессильны перед ним. Воля его страшна и несгибаема. Прибери его, Господи, иначе вижу впереди ужасные несчастия России!" Глупец - у Бога просить моей смерти. Слабый человек. Хотя кое-что соображавший.
Да, я отказался от союза с образованными людьми. Мне казалось, они идут не туда. Я называл их презрительно: господа буржуазные профессора. Я сделал ставку на людей необразованных, но решительных и преданных идее. Эти люди при надлежащих управлении и дисциплине могли свернуть горы. И свернули. Для этого нужны были жертвы. Я не хотел убивать миллионы для будущего счастья. Но возникла нужда расстрелять тысячу. Ну две. Ну три.
Оставьте меня. Я устал. Очень устал.
Я давно хочу покоя. Отдайте мне мое тело. Отдайте его вечности.
Столько лет я лежу и смотрю. Лежу и смотрю. Я вижу все. Мне тяжко, больно, страшно. Я устал. Отпустите в вечность. В правовом государстве есть права и у мертвых.
Дорогой Андрей!
В сущности, предложенной тобою главой ты задумал перевести партию в эндшпиль. Не рано ли? Угробив всю компанию, ты, конечно, решил чисто практическую задачу, но похоронил множество более тонких и любопытных литературных решений. Ухнул в дыру тиран с любимой и любящей дочерью, телохранителями, приближенными, обслугой. Ну и что? Наказан порок? Где же вынесенное в заглавие похищение, суд народа, справедливое возмездие людское, не Божье или осуществленное физическим феноменом?
Я не вижу эндшпиля. Может быть, вижу пат - там, за горами.
А сейчас - один из поворотов середины игры.
Дело сейчас, впрочем, не в Болте. Дело-то в нас. В тебе, во мне, в миллиардах наших современников и сопланетников. В наших душах, в нашей крови. Сгинул Болт, но отравлена наша кровь. Яд вождизма, фанатизма, кровавого утопизма - малой пусть, но жуткой толикой растворен в нашей крови. И низменная его противоположность - отрава холопства, пресмыкания, жалкого неверия в себя, отрава постыдного стяжательства и тупой, дубовой бездуховности. Какова сила и жизнестойкость этих ядов?
Вопрос велик, неподъемен, рассыпается на крупицы. Одна из них - самая, быть может, заметная ныне: откуда болезненный интерес и внимание к палачу? Как будто мы силимся разглядеть огромный сгусток этого яда, явленный в одном человеке. Не в силах мы оторвать от него завороженного взора. И вот опять о нем.
Пусть Болт, поняв, что его берлога раскрыта, пытается переселиться на тот же Гадес, захватив с собой дочь и приспешников.
В операцию, конечно, вовлечен преданный инспектор службы порядка с четырехугольным лицом (некогда мы могли его видеть в скупой телехронике всегда позади августейшей особы, хорошо одетый детина с равнодушным и одновременно нервно-зорким взглядом).
Авсей Год, и сам не спускающий с него глаз, догадывается о чем-то.
Он предлагает Андрису и Велько захватить Болта, привезти в столицу и предать суду. Они запугивают детину, выведывают подробности, пытаются схватить Цесариума при посадке в корабль и... сами попадают в плен. Никто не знает об их судьбе - операция похищения готовилась в тайне, даже Марья ни о чем не догадывалась.
Спейс-корвет летит к Гадесу, где у Болта есть единомышленники.