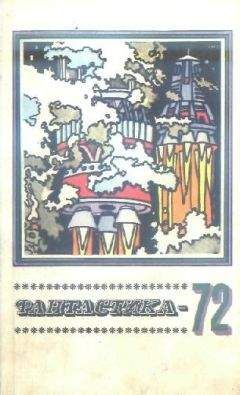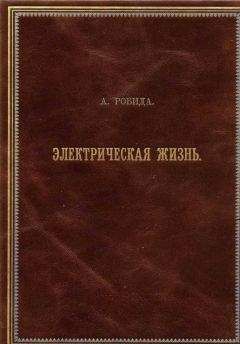С Ивиным тоже было немало хлопот в свое время, когда Баржин решил перетащить его к себе. Дело в том, что Борю-бис угораздило из-за какой-то романтической истории уйти с пятого курса института, да так и не вернуться туда. И Баржину пришлось ходить к Старику и доказывать, что пройти мимо такого человека «больше чем преступление — это ошибка», как говорил господин де Талейран. И Старик сам объяснялся с начальником отдела кадров… В конце концов Борю-бис оформили младшим научным сотрудником, хотя это было отнюдь не много для таких золотых рук.
Практически же он руководил второй экспериментальной группой.
Наконец, Перегуд. Он пришел в лабораторию одним из последних, потому что он — испытатель.
Первый в истории лонг-стрессмен.
Еще мальчишкой Герман увлекся парящим полетом. Это был новый, модный в ту пору вид спорта: большой трамплин, вроде лыжного, по которому скользит по рельсам тележка — слайд, выбрасывающая в воздух человека с крыльями, чем-то напоминающими первые планеры Лилиенталя. Крылья раскрываются в момент, когда человек в свободном полете достигает наивысшей точки. А потом начинается парение…
Оцениваются и длительность, и дальность, и изящество полета.
Герман довольно быстро стал сперва разрядником, потом мастером, наконец — чемпионом Союза. Кончив школу, Герман поступил в Институт физической культуры имени Лесгафта. Окончил, был оставлен в аспирантуре и в порядке культурного обмена послан в Индию, в Мадрасскую школу хатха-йоги. Вернувшись, начал преподавать в институте, а попутно вел факультатив по хатха-йоге. Кроме того, он читал популярные лекции, на одной из которых и познакомился с Баржиным. Точнее, Баржин подошел к нему и предложил поговорить.
Герман согласился, и Баржин рассказал ему всю историю своей идеи, историю хомофеноменологии и их лаборатории.
Вот сидят они за столом — такие разные, несхожие, со своими судьбами, характерами, взглядами.
Что же объединяет их?
Хомофеноменология.
Человек и идея — это система с обратной связью. Идеи порождаются людьми, но, в свою очередь, влияют на людские судьбы, зачастую формируя не только отдельных людей, но и целые поколения.
Хомофеноменология родилась из коллекции Борьки Баржина, но еще долго переживала своеобразный инкубационный период — до тех пор, пока однажды Старик не сказал:
— А что, если представить себе все эти возможности сконцентрированными в одном человеке, этаком Большом Бухарце, а?
Тогда она стала бурно расти, вовлекая в сферу своего влияния все новых людей, порождая субидеи, расти, пока не закончилась провалившимся экспериментом, — как железнодорожная ветка заканчивается тупиком, конструкцией из пяти шпал, выкрашенных черно-белой полосой и укрепленных песчаной обваловкой.
Но когда она начиналась, Баржин не думал, что такое может произойти. Ведь все шло так гладко, так замечательно гладко…
Они начали с классификации.
Выяснилось, что все подтвержденные феномены можно разделить на две основные группы: способности гипертрофированные, развитые за счет притупления остальных, как, например, осязание у слепых; и способности, развитые самостоятельно, без ущерба другим. В первую очередь Баржина интересовали именно эти, вторые способности, хомофеномены.
Но все случаи были спонтанны, непредсказуемы и неуправляемы.
В этом и была, в сущности, вся проблема.
Первая модель, Бухарец-1, была просто суммой всех известных феноменов второго рода. Их набралось свыше сотни: чтение со скоростью сотен тысяч знаков в минуту; отсутствие потребности в сне; наследственная, генетическая память; способность к мгновенному практически устному счету…
Этот ряд можно было бы продолжить до бесконечности. Бухарец-1 оказался настолько непохожим на нормального человека, что не только Баржину, даже Старику стало не по себе.
Бухарец-2 отличался от первого усложнением внутренней структуры. Для удобства была принята такая модель: предположим, что мозг человека, как известно, задействованный лишь на три—пять процентов, состоит как бы из двух зон — рабочей, включающей в себя эти пресловутые три-пять процентов, и резервной, причем рабочая окружена неким барражем. Не будем вдаваться в генезис этого барража, для хомофеноменологов он был условностью, как условна модель атома Бора.
Главное в другом: в этом случае все хомофеномены можно представить узкими локальными прорывами барража, лучевым выходом интеллекта из рабочей зоны в резервную.
Но опять-таки: как сделать этот выход управляемым?
Вот тут-то пригодилась так удачно брошенная Озолом идея лонгстресса.
Стресс — точнее, одна из его разновидностей, активная или норадреналиновая, при которой надпочечники вырабатывают и выбрасывают в организм норадреналин, — это как бы форсаж биологической системы. В состоянии стресса организм действует на пределе своих возможностей (по Бухарцу-2 — возможностей рабочей зоны). Однако стрессу сопутствует резкое ускорение темпов белкового обмена, увеличение количества потребляемой энергии и вырабатываемых шлаков. Поэтому стресс кратковремен, а за ним следует тяжелая реакция.
Обычная белая мышь вдруг набрасывается на кошку с такой яростью, что опешивший «микротигр», теряя клочья шерсти, обращается в бегство. Это — стресс.
Человек поднимает двухтонную балку, придавившую его напарника, и держит на весу, пока пострадавшего оттаскивают в сторону.
И это — стресс. Разведчик за считанные минуты перелистывает сотни страниц, испещренных сложнейшими расчетами, а потом воспроизводит их с точностью до запятой. Это не только тренированная память, это — стресс.
Как же его пролонгировать?
На решение этой задачи ушло несколько лет, а могло бы во много раз больше, не догадайся они привлечь к работе Институт экспериментальной физиологии и Гипромед. Найденное в итоге решение было если и не идеальным, то, по крайней мере, приемлемым.
Оно представляло собой систему из трех рецепторов (на артерии, вене и ретикулярной формации, этом распределительном щите мозга), передававших показания на сумматор. Последний управлял деятельностью дополнительной почки, которая перерабатывала и утилизировала избыток белковых шлаков, и работой двух эффекторов, один из которых через артерию вводил в организм АТФ, а другой регулировал, воздействуя на гипофиз, гормональный баланс.
Эта система позволяла безо всяких последствий удерживать организм в состоянии стресса сколь угодно долгое время.
Первые опыты на крысах дали обнадеживающие результаты. Физическая сила и выносливость повысились многократно. Интересно было и поведение крыс в лабиринтах: при Первой попытке результаты лонг-стрессированных животных были почти такими же, как и у контрольных. Но при последующих лонг-стрессированные не ошибались ни разу. Закреплялись рефлексы мгновенно.