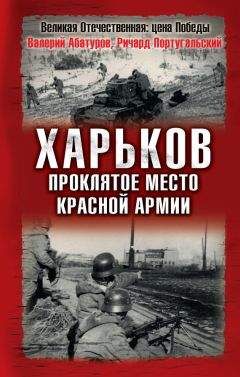Но единожды обманутый вот только что Иван на сей раз был бдителен - первым делом он лишил юношу презумпции духовной изысканности, которой исподволь наделял его дивный, с былинными дубами, парк. А что, если в руках у юноши вовсе не томик Жуковского и не Верлен в оригинале? Краешком души Иван уже предчувствовал: основным мотивом этого дня, а быть может, и дня следующего, станет разочарование, раз-очарование. Иван встал, непринужденно приблизился, спросил у юноши время, исподволь бдительно экзаменуя обложку перевалившейся на бок книги. Это были «Сорок экзаменационных билетов по украинскому языку и литературе»…
Удаляясь по аллее в сторону сумеречной громадины университета, Иван сплел-таки в косицу терханные ниточки своей тоски.
Да, у засранца Лимонова была-таки великая эпоха. И она, как Кетцалькоатль, требовала жертвоприношений. В виде прочитанных книг.
Эд читал. Его друзья читали. Читали все.
А кто не читал, тот по крайней мере сожалел, что не приучен. Делал вид, что обязательно будет…
А вот нынче-то, а? Ивану для того, чтобы пройти собеседование на работу в Северо-Западной Страховой Компании (хотя почему Северо-Западной? правильнее было бы Американо-Канадской!) пришлось утаить весь свой немалый читательский стаж. «Underskilled and overeducated», то бишь «навыков маловато, с образованием - перебор». Это был самый распространенный вердикт при отказах. Причем как только пацаны и девки в отделе кадров начинали подозревать о наличии у тебя образования - нет, не диплома, а именно образования, не дай бог, добытого жертвенно и самочинно, они сразу и бесповоротно, непонятно, на чем основываясь, отказывали тебе во всяких вообще профессиональных навыках, даже не снисходя до тестирования оных.
Все три года в Компании Иван только и делал, что пытался «казаться проще». Он даже начал стричься накоротко. («Устал изображать из себя интеллигентного человека», - отшучивался Иван в разговорах с приятелями, знавшими его вихрастым обладателем конского хвоста). Он вычистил из собственной речи все старообразные обороты вроде «мон ами» и «антр ну». Вытравил привычку «выкать». Научился отвечать «понятия не имею», когда коллеги разгадывают несуразный своей очевидностью сканворд. А ведь ничего такого он никогда не знал (как знал, например, его прадед, академик-византист, или дед по отцу, автор классического учебника по неорганической химий). Не особым он, Иван, был книгочеем, максимум - продвинутым любителем словесности. Французским владел так себе, на уровне чтения адаптированного для школ Гюго. Но даже и французский на том собеседовании пришлось спрятать. Ограничившись галочкой в чекбоксе анкеты напротив строки «английский: бегло, без словаря».
На следующее утро он вновь явился на свой амурный пост. С полчаса Иван простоял перед дверью, вдумчиво разглядывая беленые лозы электропроводки на стене подъезда.
А потом поехал-таки на воспетую Лимоновым Тюренку, чтобы хоть что-нибудь осмысленное, с оттенком высшего значения, за день сделать.
«Тюренка - это расплывчатое понятие. Тут она везде!» - философически заметил шофер и высадил Ивана возле металлической ограды, за которой корчился старый яблоневый сад.
Насторожился вокруг частный сектор, приземистый, неприветливый.
Вдали серел вроде как завод.
Тюренка была неказиста и полуобитаема. Даже лимоновские призраки, казалось, покинули ее. Иван пошел куда глаза глядят.
Повсеместно асфальт тротуара вспарывали корни могучих тополей - Харьков был обильно засажен именно этим, нелюбимым аллергиком-Иваном деревом.
Справа простиралась заводская стена - вспоминая поездку, Иван сообразил: это сюда вела поржавелая железнодорожная колея. Мертвенно глядели из-за забора окна запустевших цехов. Ни одного звука не доносилось с той стороны. На крыше здания, украшенного старинным лозунгом, прославляющим труд, росли две березки - прямо Чернобыльская зона отчуждения.
А стена все тянулась. Слева, веером распыляя лужи, проносились редкие машины.
Иван шел, понурив голову. Он размышлял. Приходилось признать очень банальную вещь - а Иван не любил признавать банальные вещи - что центр Харькова, при всей явственной изнуренности своего исторического облика, выглядит все же более близким к своему нетленному образу, сотканному писателем Лимоновым, нежели рабочие окраины (хотя, казалось бы, шансов измениться за эти сорок лет у центра было значительно больше). На рабочих окраинах, и в этом было все дело, теперь не жили рабочие. Рабочих не было больше. Они ушли по-марксистски, как класс. Какие-то люди, конечно, и теперь селились в этих домишках. Но вряд помнили они, что такое токарный станок и где она, та заводская проходная.
Если сравнить город с человеком (а Иван любил такие штуки; Москва представлялась ему дородной торговкой колбасными изделиями, Сочи - подвыпившей путаной, Мурманск - ворчливым офицером, раньше срока уволенным в запас), то Харьков вышел бы красным инженером в белом льняном костюме (вначале он думал, город похож на изнасилованную девушку, но затем признал: не девичья стать). Представим себе - этот спец шел себе домой по темному переулку, когда с ним поравнялась уличная банда. «Закурить не будет?» И вот уже шпана, потея, метелит бедолагу, еще удар - и он корчится на земле, проблеск «золлингеновского» ножа… примерно как в конце «Подростка Савенко»… Светает. Наш инженер-молодчага спотыкливо бредет домой, зажимая рану ладонью. Нестерпимо болит раздувшийся лиловый глаз, брючина висит на честном слове, во рту минус два зуба. Если окликнуть его, он посмотрит на тебя с этакой мучительной гордостью, но не станет жаловаться, конечно…
Итак, что же это происходит, господа, друзья? Куда девался лимоновский Харьков? Ведь что такое три составляющих его? Это пролетарии, читающие юноши и прекрасные неверные женщины. Первых - не замечено. Вторых - не обнаружено. А третьи?
Мимо прошла развитая школьница в куртке с капюшоном и модных уже не первый сезон джинсах с супернизкой посадкой. Иван до не хочу насмотрелся на этот смелый фасон минувшим летом. (Флэшбэк: невинное создание выбирается из маршрутки и ближний к двери пассажир (Иван) имеет счастье наблюдать нежную ложбинку между ягодичками, а у ее товарки, той не хватило сидячего места и она стоит, вцепившись пятерней в обитый велюром потолок, штаны сползли так низко что кажется, вот-вот проглянет жесткая лобковая поросль…)
Иван настолько увлекся, что лишь когда девушка поравнялась с ним, заметил - она горько, надсадно плачет.
Мысль Ивана вновь возвратилась к Лимонову.
В его книгах женщины, кажется, никогда не плакали всерьез.
Плакали, хотя и бесслезно, мужчины, точнее - мужчина-автор, покудова вокруг развратно извивались хладные красавицы, десятки, десятки одинаковых, жестоких. Ивану вдруг вспомнилось, что его кузина Клавдия, та самая, с мужем Рысей, несколько лет работала реабилитологом в одной Санкт-Петербургской клинике для деятелей культуры. От нее Иван слыхал, что у балерин, мол, ноги жуткие. Вместо ногтей, де, у них камешки, сухожилия рельефные, как у лошадей, и тесно облеплены сухой, серой кожей, большой палец будто из песчаника вырезан, это от многолетнего стояния на пуантах. Словом, ноги-уродки, не для посторонних глаз. Ведь наверняка, подумалось Ивану, тот орган, которым Лимонов воспринимал своих женщин (он затруднялся орган этот поименовать, но не половой же в самом деле, это было бы слишком просто, про себя он окрестил его по аналогии «ноги») - женщин блудливых и архиблудливых, роскошных и резвых, обманных и беспредельно подлых - находится у разменявшего седьмой десяток мэтра в том же состоянии, что и натруженные балеринские ноги - кое-где уже окаменело, кое-где еще только известкуется…