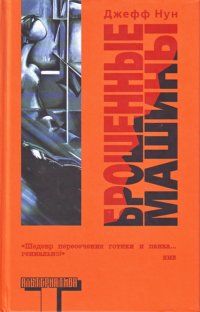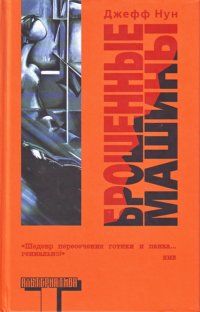Да, я ее позвала.
Назвала ее имя. Свое имя. Потому что ее зовут так же, как и меня. Женщина замирает на месте, но не оборачивается ко мне. Я подхожу к ней со спины.
— Марлин? Это ты?
Кто-то произносит слова. Женщина медленно оборачивается. Мне представляется зеркало, которое вертится на продольном стержне, так что отражение смещается под разными углами. Тени скрывают ее лицо, берегут ее облик. Она не выйдет из тени. У нее на шее поблескивают искры света. Двух цветов. Желтого и голубого. Две деревянные бусины, желтая и голубая, на тонкой цепочке. Мне пришлось подойти еще ближе, еще на шаг, и еще — чтобы лицо проявилось в сумраке. Эти глаза, эти губы, прядь волос, упавшая на лицо, эти высокие скулы, эта бледная кожа… рука, протянувшаяся вперед…
— Марлин?
Кто-то произносит слова. Кто-то…
— Что вам нужно?
Это не она. Это не тот человек, за кого я ее приняла. Это кто-то другой. Незнакомый.
У меня за спиной воет собака. Играет музыка. Женщина берет меня за руку. Ее пальцы сжимаются, бережно, осторожно. Она тянет меня к себе, и я подступаю к ней, совсем близко. Свет меркнет. Тени смыкаются вокруг меня, вокруг нас.
* * *
Черные буквы, влага, царапины. В темноте. Ручка пишет по коже, по коже молоденькой девочки. Слова, написанные на коже. Рукой Марлин. Слова, что ложатся на кожу. И Марлин думает про себя: только так, покрыв все тело словами, все целиком, только так можно спасти эту девочку. Марлин тоже чувствует, как острый кончик пера врезается в кожу, вливает чернила в тело девочки, слова — напрямую в вены; и Марлин понимает, что эти слова либо оживят ее, девочку, либо убьют. Главное, чтобы это были правильные слова и чтобы они шли в определенном порядке — только так можно будет ее спасти. Мягкая влага, кусочки разодранной кожи, царапины, черные чернила. Тихие вскрики боли, темнота. Марлин уже понимала, что у нее ничего не получится, ничего. Что это письмо — как отрава. Но она все равно не могла оторвать ручку от кожи. Марлин не могла перестать писать. Не могла остановиться. А потом, словно из ниоткуда, возникла идея, что для того, чтобы остановиться, надо просто проснуться. Вырваться из этого сна. Открыть глаза, разрешить им открыться… но Марлин не сумела открыть глаза. Ей надо проснуться. Так в чем проблемы? Тело Марлин было как медленный механизм, в котором работали только мозг и рука, пишущая рука. Глаза Марлин не открывались. Ей надо было найти инструкцию, скрытое указание, как запустить механизм, как заставить его работать. Нащупать в кромешной тьме эти крошечные рычажки, что приводят в движение глаза. Потянуть за них — только теперь осторожнее, — чтобы выполнить операцию. Оторвать ручку от кожи молоденькой девочки, открыть глаза, прищуриться на свет, что врезается прямо в зрачки.
* * *
Где я? Тело — тугой комок боли, свернувшийся на заднем сиденье машины, приходит в себя, просыпается. В одиночестве. Блин. Я села прямо, огляделась по сторонам. Кирпичные стены, мутный желтый свет. Подземная стоянка. Я не помню, как здесь очутилась. Рваные клочья голосов у меня в голове: они говорили все разом, чего-то требовали, так настойчиво. Сколько времени? Сейчас день или ночь? Определить невозможно, никак.
Тетрадка валялась на полу, у меня под ногами. Открытая. Поверх тетрадки лежала ручка. Наверное, я что-то писала, а потом заснула. Из ручки вытекли чернила, прямо на страницу. Молоденькая девочка, слова, обнаженная плоть. Может быть, я вообще не спала. Писала. Выдумывала…
Почему я не приняла «Просвет»?
Я открыла сумку. Там, на дне, среди смятых салфеток и рассыпанной мелочи, где еще были ириски, и кошелек, и листочки с какими-то бессмысленными номерами, ключи от дверей, которые, может быть, уже никто никогда не откроет, перочинный ножик, ручки и книжка квитанций, и среди всего этого, среди пакетиков с растворимым кофе, украденных из какого-то паршивого мотеля, среди отрывных спичек, купонов на бензин, правительственных листовок, среди этих кусочков и крошек жизни, катышков пыли и сахарных песчинок, семян каких-то цветов, мелких частичек меня, чешуек отшелушившейся кожи, молекул, там, в самом низу, было несколько запасных капсул «Просвета».
Я достала одну. Крошечный желтый глаз смотрел на меня, прямо на меня.
Я вспомнила этих людей в кофейне, деливших одну капсулу на четверых. Может быть, мы принимаем его слишком много, «Просвета». Может быть, медики ошибаются и дают нам неправильные установки. Я раскрыла на коленях дорожный атлас и высыпала на него содержимое капсулы. Послюнявила палец, набрала на него порошок, поднесла палец ко рту. Меня затошнило от одного только вкуса. Но я все же сумела себя пересилить и втерла порошок в язык. Столько, сколько смогла. Нашла на сиденье бутылку с водой, отпила пару глотков.
Голоса в голове стали громче — не тише. Куда я иду? Куда?
Я подняла тетрадку с пола. Перечитала последние пару страниц. Неразборчивые каракули, мешанина слов, что рассказывают мою историю. Прогулка по пляжу, странное приспособление у кромки прибоя, знаки, выхваченные наугад. Женщина, за которой я шла в толпе. Темнота. Текст словно таял у меня на глазах. И если раньше в нем был хоть какой-то смысл…
Зачем вообще это нужно? Зачем я все это записываю? Моя тетрадь заразилась шумом. Я уже не могу с ним бороться. Все, моя битва закончилась. Все, что смогла, я сделала. И я вырвала из тетрадки листок. Потом еще один, и еще. Не подряд, а какой попадется под руку. Наугад. Вырванные листы я бросала на пол. Видимо, я порезала руку, хотя и не помню, как это произошло. На листах была кровь. Она капала на слова, которые я вырывала, не глядя.
Я достала фотографию из кармашка. Бессмысленный образ. Цвета, размытые изображения: кто-то и кто-то, что-то и что-то еще. Неразличимые формы. Я слишком долго таскаю его с собой, этот снимок. Я взялась за верхние уголки фотографии. Руки знали, что надо делать. Пространство наполнилось тихими вскриками. Господи. Что я делаю?! Глаза защипало от слез. Надо остановиться, пока не поздно. Надорванная фотография выпала из рук и опустилась на пол, поверх вырванных из тетрадки страниц. Потому что иначе нельзя. А потом я взяла свою сумку и вышла из машины.
Эта машина, старая, побитая колымага, проржавелая оболочка, больной, умирающий механизм; эта машина была моим домом, единственным местом на свете, которое я считала своим.
Куда я иду? Куда?
Я поднялась вверх по лестнице и вышла в какой-то проулок. Была ночь. Окна офисного здания искрились огнями. Я пошла вперед, не разбирая дороги. Вдыхая сочный, соленый воздух. У меня в голове продолжали звучать голоса. Потом я попала в толпу людей и затерялась в ней, растворилась. Толпа увлекла меня за собой: вдоль по улице, за угол, к набережной. Мимо медленно проезжали машины, свет фар растекался длинными белыми струями среди крошечных красных искр тормозных огней, свет мерцал в такт громкой музыке, которая теперь звучала повсюду, теперь, когда мы перешли дорогу, по разъемам пустого пространства между машинами, через бульвар, к ограждению над пляжем, где я стояла, смотрела на море и небо, раскрывшееся передо мной, на эту безбрежную багровую сеть, в которой запутались звезды, и луна неподвижно застыла над темной водой, отражение луны — как серебристая пыль на воде, на черной воде, что сверкала, соприкасаясь с миром, с длинным изгибом каменистого пляжа, и там, на пляже, горел костер, и там были люди, много людей, и они танцевали в отблесках пламени, а потом я взглянула вниз, перегнувшись через перила, на дорожку вдоль пляжа, где люди уже собирались у входов в клубы, потерявшиеся в сиянии огней, в бликах света, в музыке, в голосах, в запахе дешевой еды и спиртного; где неоновые вывески над дверями творили свое искрящееся чародейство; и дальше, где старая карусель с деревянными лошадками; и еще дальше, где россыпь чаек; и дальше, где пирс выдавался далеко-далеко в океан, озаренный светом, словами и числами, что поднимались в багровое небо, как струйки дыма; петли американских горок раскачивались над водой, переливаясь огнями, вверх-вниз — сполохи красок на ночном небе; и я смотрела на это, и вбирала все это в себя, в самую глубину зрачков — пусть все сверкает, пусть все сливается с голосами, что кружились у меня в голове; куда я иду, куда; голоса; и я подняла обе руки, не обращая внимания на людей, что толпились вокруг, я раскинула руки, словно стремясь обнять небо, мне было уже все равно — пусть кричат, голоса, пусть они рвутся наружу, пусть — я им разрешаю, я разрешаю.