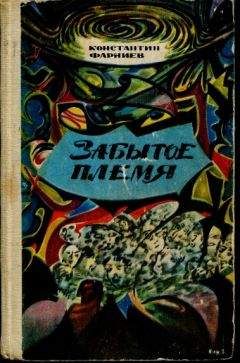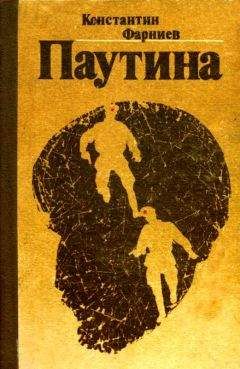Известие о том, что узники из подвала, вырвавшись наверх и объединившись с инженерами из Зала, уже почти полностью захватили Центр, привело Бергмана в паническое состояние. И сейчас, осмысливая свой нежданный разговор с Бэмом, он пытался преодолеть чувство безнадежного отчаяния, которое, несмотря на все усилия Бергмана, все глубже и глубже проникало в него, обезволивая, лишая уверенности в себе.
Бергмана ничуть не успокоил и Крайт, с которым он связался сразу же после разговора с Бэмом. Окажись шеф СБ в эту минуту здесь, Бергман пристрелил бы его на месте. На совести Крайта, как он полагал, лежали трагедии Вольфа и захват мятежниками Центра.
Крайт уже знал о событиях в Центре. Пытаясь сделать хорошую мину при плохой игре, он с неестественной бодростью сообщил, что уже снял с зон почти все силы СБ и бросает их на штурм Центра. Он успокаивался тем, что мятежников там совсем мало, и они не продержатся и часа.
Вышагивая по аппаратной, Бергман снова и снова возвращался к тому, о чем говорил Бэм. Он надеялся найти в доводах Бэма хоть какую-то зацепку, которая позволила бы усомниться в их доказательности.
— Я говорю тебе не только от себя и от мятежников в Центре, — заявил Бэм, — но и от лица Тома Кинга — предводителя вестников. Мы не откажемся от борьбы…
Не считай меня предателем… — Бэм сделал паузу, рассчитывая на реплику Бергмана, но тот молчал. — Нет, — качнул головой Бэм, — я не предатель, но был им, когда шел за тобой; мы предавали, а ты продолжаешь делать это и сейчас, все человеческое. Раскаиваться поздно, но от этого никуда не уйдешь. Здравый смысл должен прийти и к тебе и подсказать верное решение. Пока не поздно, остановись и ты, подумай, — голос Бэма стал немного мягче. — Что из того, что ты убьешь себя, Город? Там, — кивнул Бэм куда-то наверх, — даже ничего не узнают о нас. Но вижу по твоему лицу, что ты непреклонен. Так знай: программы «Пуск» не будет! — в голосе Бэма снова появились жесткие, категоричные нотки. — Мы не позволим даже ценой нашей жизни, тебе ранить землю. Это решение пришло не сейчас.
— Когда же? — криво усмехнулся Бергман.
— Давно уже, — спокойно ответил Бэм. — Суть не в этом. Ты не возобновишь проходку в шлюзовом тоннеле, пока Кинг будет удерживать электронный завод. Ведь только из главного корпуса можно подняться в штольню. А у Кинга много пищи, аварийных запасов воды, он продержится долго. Вы отключили цехи в захваченных мятежниками зонах от тепла и освещения, но надолго ли. Промышленный пояс парализован. Если он простоит еще двое-трое суток, в Городе нарушится равновесие — энергетическое, экологическое, климатическое, не исключено, что необратимо. Город — не часовой механизм, который можно запускать заново. У тебя есть два выхода. Первый — отказаться от дальнейшей борьбы с нами и позволить нам попытаться связаться с поверхностью.
— Каким образом? — буркнул Бергман. — Компьютер связи с поверхностью необратимо выведен из строя, он мертв.
— Мы можем использовать программу «Пуск». Закончим проходку, но выбросим на поверхность не боевую ракету, а пассажирскую. У тебя же есть несколько таких ракет, на которых ты собирался эвакуироваться сам со своими ближайшими единомышленниками.
— И с тобой тоже, — усмехнулся Бергман.
— Не надо, — быстро сказал Бэм. — Купить свою жизнь за миллиард других?
— Успокойся, тебе это уже не грозит. Теперь послушай меня. — Глаза Бергмана превратились в щелки, похожие на амбразуры, из которых будто выглядывали дула автоматов. — Передай все, что я скажу, выродкам, стоящим за тобой. Если не будет программы «Пуск», вступит в силу нулевой вариант. Только нулевой и больше никакой. Я еще подожду: оставлю Крайту возможность раздавить вас, как мокриц, а там посмотрим. А может, я и не буду ждать. Все. Больше не хочу тебя видеть никогда! — Бергман выключил видеотелефон.
Дойдя в очередной раз до пульта, он приостановился, стало вдруг спокойнее. Разговор с Бэмом избавил его от неопределенности, сомнений, подвел к черте, за которой не было ничего, кроме непреложной очевидности. Такое состояние порою возникает у пассажиров поезда, едущие до конечной станции.
Чего ему нервничать, волноваться? В чем дело? Все равно никто не ссадит с поезда, потому что он сам правит им и едет до последней станции. Бэм прав: шансов на запуск программы «Пуск» не осталось, тогда зачем тянуть с остальным?
Бергман сел в кресло, положил руки на пульт. Он успокоился совсем. Почему бы не последовать совету Бэма и не оглянуться назад? Бергман уже не мыслил для себя будущего, потому что подсказанный Бэмом исход протекавшей вне аппаратной событий подобно дамоклову мечу, висел над Бергманом, чтобы в завершающей фазе развития этих событий упасть перед ним и отсечь жизненное пространство, которое могло бы быть его будущим, если он дрогнет, отдернет руку от кнопки, выключит из игры силы фантастической мощности.
С давних пор Бергман боялся именно этого момента — когда ему придется решать: нажимать на кнопку или не нажимать.
То, что обозначало для Бергмана жизнь — великое множество конкретных событий, обстоятельств, фактов, людей, отношений с ними, к которым он был лично причастен и которые составляли его судьбу, как отдельные элементы мозаики составляют единую картину, не шло ни в какое сравнение с тем, что наступало для него с падением дамоклова меча. Бергман никогда не испытывал страха пеиед смертью: он не знал тяжелых болезней, не переживал глубоких душевных трагедий. Да и настоящий ужас перед смертью человек испытывает, наверное, только в короткие секунды, когда к нему действительно приходит смерть. Если бы Бергман положил на чаши весов то, что означало для него жизнь, и то, что означало смерть, первое по весу оказалось бы чем-то вроде сверхплотного вещества, из которого состоят звезды-карлики, а второе — ничем, абстракцией. И тогда пустая чаша весов стремительно взлетела бы кверху и разнесла вдребезги дамоклов меч со всей его фантастической мощью. Так что у Бергмана имелись очень веские причины избегать подобных размышлений. Они могли бы много раньше вынудить его капитулировать перед инстинктом самосохранения, который жил в нем, притаившись, и ждал своей минуты.
Бергман прикрыл ладонями глаза, посидел так несколько мгновений, потом резко отнял руки от лица. Он уже был готов к схватке с самим собой.
Чтобы заставить себя нажать на красную кнопку, нужно было до предела обесценить в своих глазах то, из чего состояла его жизнь. А это значило доказать себе, что ее сверхплотность и сверхтяжелость по сравнению со смертью — иллюзия, что жизнь его была и остается лестницей, ведущей только вниз. Раньше он запрещал себе даже намекать на такое, ибо тогда поблекнул бы ореол вокруг идей, которым он посвятил свою жизнь. Но сейчас наступил такой момент, когда беспощадность к самому себе должна раздавить в нем инстинкт самосохранения.