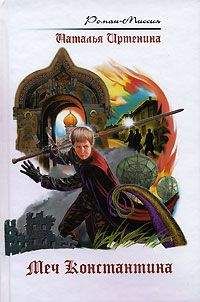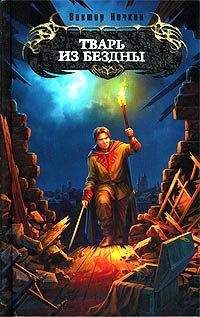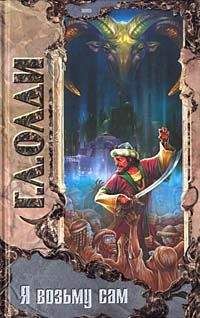— Василисушка, пойдем отсюда, — ласково попросил Леха. — Запомним место, потом с отрядом вернемся.
— Лешенька, ну как ты не понимаешь, в следующий раз ее тут может не быть!
— Ничего, мы ее в другом месте найдем.
— Думаешь? — закусила губу Василиса.
— А если ты сейчас откроешь пальбу, нам отсюда живыми не уйти. Вся ее кодла на уши встанет, — уговаривал Леха. — Тебе Костика не жалко?
Василиса посмотрела на меня, и глаза у нее подобрели. Она тряхнула стрижеными волосами и решительно сказала:
— Идем. Надо обойти их, с той стороны где-то должна быть хоть какая дорога.
С той стороны в километре от вырубки действительно проходила трасса, но вела она, судя по указателям, совсем не туда, куда нам требовалось. Мы перешли ее и снова углубились в лес. Василиса разобралась с местной географией, и теперь точно знала, куда идти. Я опять высматривал грибы, сосредоточенно размышляя об упущенном шансе разделаться с Лорой Крафт. Вернее, одной из ее ипостасей. Леха шагал впереди и распевал какую-то романтическую чушь. И вдруг:
— Леша! — звонкий, как струна, голос Василисы.
Мы повернулись одновременно. Василиса стояла метрах в двадцати сзади, замерев на шагу. Одна нога была впереди, на нее она опиралась. И глаза умоляюще смотрели на Леху.
— Что?.. — крикнул он и осекся.
Я глядел на нее с ужасом и понимал, что ничего мы с Лехой сделать не сможем, чтобы спасти ее. У нас в отряде такое умели проделывать только двое, командир и Монах.
Леха бросился к ней.
— Нет!.. — выкрикнула она отчаянно, останавливая его. — Не смей.
Она прощалась с ним. На щеку выкатилась слеза.
— Прости меня.
Это были ее последние слова. Василиса быстро убрала ногу. Прогремел взрыв.
Леха упал на колени и закричал. Без слов, как раненый зверь.
Эти мины у нас назывались «подкидной дурак». Сейчас их использовали редко, в основном ставили растяжки с гранатами. Василиса, скорее всего, наступила на мину старой закладки. Может быть, ее поставили здесь лет десять назад. Вот и нашла наконец хищница свою жертву.
Леха лежал на земле и, кажется, не был сейчас способен ни на что. Я достал трубку, связался с командиром. Рассказал в двух словах. Как мог, описал, где мы находимся.
Они пришли через два часа. Все это время я просидел возле дерева, а Леха лежал на спине и невидящими глазами смотрел в небо.
Ты воспари — крыла раскинь —
В густую трепетную синь,
Скользи по Божьим склонам, —
В такую высь, куда и впредь
Возможно будет долететь
Лишь ангелам и стонам.
Сейчас туда поднималась душа Василисы и Лехины молчаливые стоны.
Но, может, был тот яркий миг. Их песней лебединой.
— Скажи, она умерла? — хрипло спросил Леха.
— Она жива, — ответил я. — Кто поверил, что Землю сожгли? Нет, она затаилась на время. Помнишь?
— Помню.
До прихода отряда я читал ему песни Высоцкого, какие запомнил.
И душам их дано бродить в цветах,
Их голосам дано сливаться в такт,
И вечностью дышать в одно дыханье,
И встретиться — со вздохом на устах —
На хрупких переправах и мостах,
На узких перекрестках мирозданья.
Свежий ветер избранных пьянил,
С ног сбивал, из мертвых воскрешал, —
Потому что если не любил —
Значит, и не жил, и не любил!
После гибели Жар-птицы мы снова вернулись на базу. В отряде поселилась тоска, В первый раз я видел командира пьяным. В кают-компании Ярослав, обхватив голову руками, бормотал:
— Это неправильно… не так… что-то мы делаем не так… так не должно быть…
Командир отбросил бутылку, пнул ногой стул, процедил:
— Наконец-то хоть до кого-то дошло. — И проорал громко: — Хоть кто-то об этом заговорил.
После этого он ушел в свой дом и больше не появлялся.
Февраль целый день сидел с карандашом и папкой бумаги, рисовал, раздраженно комкал листы и выбрасывал. Паша в печали пытался ловить рыбу в пруду, где явно не водилось ничего крупнее лягушек. Монаха не спасал даже меч. Чернее тучи он ходил по базе, и в глазах была беспомощность. «Как же мы дальше будем… драться… если ее не смогли… не уберегли…»
Беспомощность — страшная вещь. Особенно мужская.
В этой ситуации не мог не возникнуть сам собой вопрос о возвращении. На следующий Же день первым его поднял Ярослав, и, кажется, все равнодушно с ним согласились, начали собираться. Даже Февраль. Тогда я пошел к Командиру, растормошил его и сказал, что это предательство. Кажется, в голосе у меня были слезы. Я кричал, что не хочу трусливо бежать, что малодушных Бог наказывает, а Серега и Василиса, и Варяг погибли не для того, чтобы мы удирали, и прочее в том же духе. Он смотрел на меня полупустыми глазами, медленно наполнявшимися смыслом и пониманием.
— Но мы же не удираем, — бормотал он, пытаясь поймать меня за руку. — От войны не убежишь… там она тоже идет… Это не предательство… Ты что, Костя… Успокойся…
— Все опустили руки… это предательство!.. — надрывался я. — И Монах… бросил свой меч… это же крест… вы дезертиры…
Даже в тот момент я смутно осознавал, что предательство здесь ни при чем, его нет. Просто мне казалось, все рушится, отряд распадается и я больше никогда их не увижу. За общим унылым безразличием мне мерещились бесплодность и безнадежность. Это было равнозначно поражению, и я изо всех сил сопротивлялся ему, догадываясь, до чего мой бунт нелеп в такой форме. Но неожиданно у меня появилась поддержка.
— Командир, мальчик прав, — сказал Богослов, стоявший в дверях. — Мы не должны возвращаться так. Мы победители, а не побежденные.
Святополк встал, одернул на себе одежду, пригладил волосы и положил руку мне на плечо.
— Мы уйдем победителями. Я обещаю, Костя.
И в этот момент на улице посыпался град — из автоматных пуль.
— Что за… — ругнулся командир, подскакивая к открытому окну. — Михалыч! Вы что там, учения открыли?.. — крикнул он пробегающему Папаше.
— Нападение, командир! — проорал тот. Святополк схватил оружие.
— Костя, за мной! Федька, прикрывающим… Так начиналась трехдневная осада базы.
Первую атаку мы отбили, хоть и с трудом. Нападающих было явно больше, но им, видимо, не хотелось лезть на рожон. Они отступили, окопались в лесу за забором.
— Вот и взялись за нас, — повторял Монах, оглядывая вражеские позиции в бинокль с наблюдательной точки на крыше столовой. — Вот и взялись…
Я тоже подполз к низкому парапету на краю и попросил бинокль. Сначала ничего не увидел. Деревья, кусты, сплошная «зеленка». Потом вдруг зашевелилась трава, и земля будто вспухла кочкой. Я разглядел лицо, ствол пулемета.