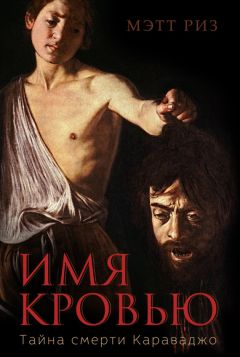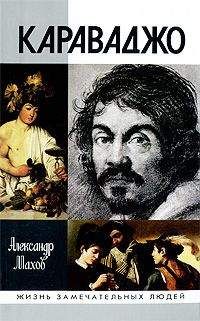Дель Монте взял Шипионе под руку, а ладонь другой руки властно положил на плечо Караваджо. Он подвел обоих к высокому окну, которое выходило на незамысловатый фасад церкви Святого Людовика.
– Его высокопреосвященство кардинал-племянник весьма благосклонно отозвался о «Призвании апостола Матфея» – картине, что я показал ему сегодня.
Повинуясь нажатию руки дель Монте, Караваджо низко – даже слишком низко – поклонился, опустив голову и выставив вперед ногу.
Через прореху в чулке проглядывало колено. «Откуда взялась эта дыра? – соображал он, смутно припоминая уличную драку прошлым вечером. – Ах да, кто-то сбил меня с ног у поля для игры в мяч на пьяцца Навона. А завязалась заваруха из-за того, что я проиграл и не желал платить. Да, точно. Кому я теперь должен? Подобных долгов ведь не прощают». Он сделал глубокий вдох, к горлу подступила тошнота.
Шипионе тем временем говорил о «Призвании Матфея». И что он мог сказать такого, чего Караваджо не слышал за пять прошедших лет? Громкая молва, вызванная его своеобразным художественным стилем, еще не стихла. Знатоки искусства разглагольствовали об оригинальности изображения Спасителя, что подвальный мрак выделяет его ярче, чем дорогостоящий ультрамарин иного художника. Впрочем, поношений и насмешек тоже хватало.
Но никто не увидел в этой картине того, о чем хотел сказать Караваджо. Всем казалось, что если свет падает на седобородого старца за столом, то это и есть Матфей-мытарь – к тому же он указывал пальцем на себя, словно спрашивая, не его ли призывает Иисус.
Но они ошибались. Иисус смотрел поверх бородача – на сидевшего дальше всех от него угрюмого юношу, который склонил голову над темной столешницей и без особого интереса перебирал монеты. Многие видели в этом юноше символ убогой жизни, которую Матфею предстояло оставить позади. В отличие от него остальные персонажи «Призвания» выглядели вполне довольными своим существованием в мире, замкнутом стенами темной меняльной лавки. Он же смотрел на мир сквозь завесу несбывшихся надежд. И призвания ждал именно он.
Караваджо написал святого за мгновение до того, как тот, подняв голову, понял, что тьма рассеялась. «То же произошло и со мной», – подумал художник. Для него живопись стала подобием руки Христовой, протянутой, дабы напомнить о призвании. Он все еще следовал этому зову, не зная, куда приведет его путь, – точно так же и Матфей не был спасен в тот момент, когда Христос призвал его. Святому пришлось ждать много лет, трудиться, поддерживая в себе веру, – и не терять из вида свет, сиявший в горней вышине, пока не настал наконец час мученичества.
– Тьма, маэстро Караваджо. Да, тьма.
Кардинал-племянник приблизился так близко, что художник почувствовал на щеке его дыхание – сладковатое, как у женщины.
– Мы привыкли к изображению библейских сюжетов на фоне чарующего тосканского пейзажа, – продолжал Шипионе. – Но, увидев вашего Матфея в подвальной каморке, я не мог не почувствовать напряжения, вызванного присутствием духа. Вы просто не в силах оторваться от его созерцания и отвлечься на окружающее.
Караваджо наклонил голову, показывая, что польщен. Взгляд его снова уперся в прореху в чулке. «Кому же я задолжал?..»
– Как вы думаете, в любом предмете можно отыскать корни духовности? – спросил Шипионе.
– Все зависит от того, кто ищет, ваше высокопреосвященство. От его души.
– Согласен. Что ж, я уверен, в его лице вы найдете то, что требуется.
«Кому я должен?..» Караваджо поднял глаза на Шипионе.
– В его лице? Что вы имеете в виду, ваше высокопреосвященство?
– Свой заказ. Я хочу, чтобы вы написали картину для золотой рамы. И не хмурьте брови.
«Что еще за лицо?»
– Вы желаете заказать мне портрет? – Караваджо склонил голову набок, словно прикидывая, впишутся ли черты кардинала в раму.
– Не свой, маэстро Караваджо, – покачал головой Шипионе. – С тех пор как мой дядя надел кольцо рыбака и призвал меня в Рим, у меня слишком много других дел.
– Разумеется.
– И одно из этих дел – сохранить для вечности черты Его Святейшества.
– Вы хотите, чтобы я написал…
– Вы будете работать в Квиринальском дворце. Холст и краски можете принести когда угодно, но первый сеанс начнется в воскресенье пополудни.
Караваджо опустился на одно колено и взял Шипионе за руку. Склонился к костяшкам пальцев, одновременно вопросительно глядя на дель Монте. Его покровитель поджал губы. Уж он-то понимал важность поручения. Слишком долго другие откровенно заурядные художники оттесняли Караваджо от папских заказов, но теперь наконец справедливость восторжествовала. Живописца озолотят. Он сумел произвести впечатление на главного в Ватикане ценителя искусства. Он напишет портрет Камилло Боргезе, папы Павла V, и тогда в каждом приходе и в каждом монашеском братстве всем, от кардинала до простолюдина, станет ясно: Караваджо – величайший художник христианского мира.
За дверями шуршала по терракоте щетка служанки.
* * *
Караваджо шел по Корсо, проталкиваясь через толпу горожан, вышедших прогуляться перед сном. Разговор с кардиналом-племянником его взволновал – ведь скоро ему предстоит встретиться с самим папой. Насколько правдиво можно его писать? Что если не устоишь от искушения и затушуешь какой-нибудь физический изъян понтифика или, к примеру, сделаешь его цепкий, алчный взгляд благодушным и целомудренным? Он уступил дорогу карете – та прогрохотала мимо, чуть не сбив его с ног, – и споткнулся о свинью, что валялась в сточной канаве. Нет лучшего способа отвлечься от мыслей о грядущем сомнительном успехе, чем работа. Он направился в Болотную таверну – поискать натурщицу для сестры Магдалины, которую он сейчас писал. Девки как раз подкрепляются винцом перед ночными трудами, рассудил он. Среди них наверняка найдется подходящее для святой лицо.
С балки над трактирной стойкой свисала единственная лампа. Караваджо почудилось, что он входит в спальню больного и не самого любимого родственника. Из сумрака выступали небритые хмурые лица, набычившиеся при виде вновь прибывшего. Множество рук нырнули под стол, готовые в любой миг выхватить нож. Возле двери, уронив голову на столешницу рядом с кувшином вина, храпел мужчина, – волосы, припорошенные густой белой пылью, выдавали в нем рабочего из мастерской каменотеса.
– Все нормально, синьор? – осведомился слуга, пробегая мимо него с тарелкой жареных артишоков.
– Меника здесь, Пьетро?
Слуга поставил тарелку. Человек в широкополой шляпе потянулся толстыми грязными пальцами за артишоком, оборвал жесткие листья и обмакнул артишок в оливковое масло. Другой рукой он крепко держал тарелку, будто боялся, что ее отнимут.