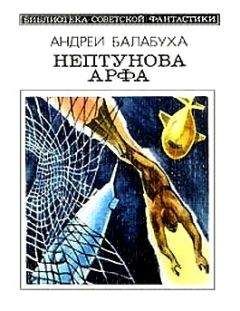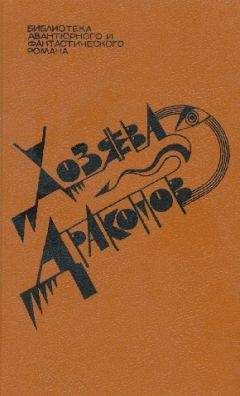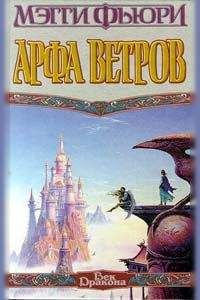Хватит! Задел он эти чужие судьбы — и будет. Незачем копаться в них. Все равно никогда и никто не узнает, что же получил — пусть ненастоящее — от этой женщины Йензен и за что он заплатил такой ценой. Или — вернуться?
У самого выхода на шоссе стояла телефонная будка — плексигласовый колпак на трубчатых стойках, похожий на пузырек паука-серебрянки. Ганшин нырнул в этот пузырек, набрал номер. Ему долго не отвечали. Он насчитал восемь, девять, десять гудков… Потом трубку сняли.
— Слушаю.
Ганшин молчал.
— Алло! — Потом требовательнее: — Алло! Ну говорите же!
Ганшин подождал еще секунду, потом повесил трубку. Что он мог сказать сейчас Юльке?
Ганшин вышел из будки и медленно, а потом все быстрее и быстрее зашагал по шоссе к городу. Он убегал, зная, что прав, что так и надо, и зная, что никогда не простит себе этого бегства, убегал, гоня перед собой то исчезавшую, то выраставшую чуть ли не до бесконечности тень.
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою
А.Блок.
В это майское утро все было прекрасно: и море, очень синее и очень спокойное, такое спокойное, что кипящие кильватерные струи из-под раздвоенной кормы «Руслана» уходили, казалось, в бесконечность, тая где-то у самого горизонта; и небо, очень синее и очень прозрачное, с удивительно уютными и ручными кучевыми облачками, томно нежившимися на солнце. От палубы пахло совсем по-домашнему, как от пола в той допотопной бревенчатой хоромине в Увалихе, где Аракелов отдыхал прошлым летом. Каждое утро хозяйка, баба Дуся, болтливым колобком катавшаяся по дому, мыла некрашеный, отполированный годами и шагами пол, надраивала его голиком, и вокруг распространялся аромат дерева, солнца и воды… Собственно, почему солнца? И почему воды? На этот вопрос Аракелов ответить не мог. Ему так казалось — и все тут. Этот запах будил его, он еще несколько минут лежал, вслушиваясь в мерное шарканье голика и невнятное пение-бормотание бабы Дуси, и его наполняло чувство полного и отрешенного отдыха.
Так оно было и сейчас. Свои шестьсот часов он отработал. Теперь можно позволить себе роскошь поваляться в шезлонге в тени «Марты», глядя, как сливаются и тают вдали пенные полоски, говорливо рвущиеся из-под кормы; можно почувствовать себя на борту «Руслана» просто пассажиром, этаким пресыщенным туристиком, совершающим очаровательный круиз «Из зимы в лето». Шестьсот часов — по шестьдесят на каждой из десяти глубоководных станций программы — дают на это право. Жаль только, кейфовать ему недолго: завтра «Руслан» зайдет на Гайотиду-Вест, а оттуда на перекладных — сперва дирижаблем «Транспасифика» до Владивостока, потом самолетом — Аракелов за три дня доберется домой. А там и до отпуска рукой подать…
Эх! Аракелов с удовольствием потянулся, заложил руки за голову и стал смотреть, как резвится в полукабельтове от борта «Руслана» небольшая — голов десять-двенадцать — стайка дельфинов-гринд. Здоровенные зверюги чуть ли не в тонну весом вылетали из воды, с легкостью заправских балерин совершали этакий «душой исполненный полет» и гладко, почти без брызг возвращались в море. Это выглядело так противоестественно, что невольно захватывало дух.
Через полчаса Аракелову пришлось все же встать и вслед за неумолимо сокращавшейся тенью передвинуть шезлонг метра на два в сторону, под самый бок «Марты». Аракелов похлопал рукой по прохладному металлу ее борта: «Лежи, лежи, чудовище, мы с тобой славно поработали. Только тебе еще маяться и маяться, а я уже все. Впрочем, тебе-то что, ты железная… Это про нас только говорят, что мы железные. А на самом деле мы вовсе не железные. Мы черт знает насколько не железные. Не то что ты! А пока отдыхай… Сколько ж тебе отдыхать? Дня два, пожалуй. Помнится, следующа станция милях в пятидесяти севернее Караури. Точно, два дня. Значит, когда ты пойдешь туда, вниз, я буду спокойненько перекусывать где-нибудь в буфете…»
«Марта» была батипланом из третьего поколения потомков «Алвина» и «Атланта». Маленькая двухместная машина, скорее похожая на самолет, только с перевернутым почему-то вниз хвостовым оперением. Этакий несуразный пятиметровый самолетик, тяжеловесный такой самолетик, даже на взгляд тяжеловесный, хотя в воде он и мог дать сто очков форы любому истребителю. «Ну это я, пожалуй, подзагнул, — подумал Аракелов. — Это слишком. Но все равно, посудинка хороша». Недаром она неизменно вызывала завистливые вздохи коллег с «Гломара Саммерли» и «Ашоки», с которыми «Руслан» встретился в море. Аракелов снова нежно погладил рукой стальной борт.
В сущности, их ничто не связывало. «Марта» работала только в верхних горизонтах, до семисот метров, тогда как Аракелов — глубинник — редко ходил меньше, чем на тысячу. И все же… Все же оба они были оттуда. Аракелов — наполовину человек, наполовину батиандр, одушевленная машина для исследования глубин; «Марта» — глубоководный аппарат, который Аракелов с удовольствием очеловечивал. В чем-то они были близки друг другу…
Аракелов достал из-под шезлонга предусмотрительно припасенный термос, налил в стаканчик соку, — стаканчик мгновенно вспотел, — выпил и поставил термос на крыло «Марты». Крыло было массивное, короткое, и это больше всего отличало «Марту» от самолета. Зато пара манипуляторов, выдвигавшихс как раз там, где у самолета шасси, усугубляла сходство. Перебирая эти сходства и различия, Аракелов запутался окончательно. «И ладно, — лениво подумал он. — Похожа, не похожа… Ну и что?»
По узкому трапу с ботдека спустилась Марийка и, улыбаясь, пошла к Аракелову. Аракелов помахал ей рукой. Он прикрыл глаза, но из-под приспущенных ресниц откровенно любовался ею. Высокая, статная, она была Аракелову выше плеча — это при его-то ста девяносто восьми! Но самым удивительным в ней была походка — не женщины, а феи-акселератки, из тех, что в лунные ночи танцуют на лесных полянах, и под их хрустальными туфельками не сминается трава…
Марийка вытащила из щели между тупым носом «Марты» и лебедкой второй шезлонг и разложила его рядом с аракеловским.
— Ж-жарко, — выдохнула она. — Я посадила Володьку за обсчет, а сама сбежала… Отдыхаешь, дух?
— Угу-м, — неопределенно промычал Аракелов.
Духами называли батиандров. Повелось это с тех пор, как кто-то из газетчиков окрестил их «духами пучин», антиподами «ангелов неба» — космонавтов. «Ангелы неба и духи пучин»… Чье это? Из какого-то стихотворения… Аракелов попытался вспомнить, но не смог. А может, и не знал никогда. Впрочем, «небеса» и «пучины» в обиходе быстро отпали, но «ангелы» и «духи» прижились. Тем более что флотские традиции живучи и с исчезновением пароходов и кочегаров надо же стало называть кого-то духами…